Глава 2. теории экономического роста
2.1. Становление теорий экономического роста.Важность экономического роста трудно переоценить. Эта проблема с давних пор была в центре исследований экономистов, поскольку в результате роста национального выпуска, при постоянном увеличении населения, каждый получает более высокий доход. Последний позволяет индивидам потреблять большее количество товаров и услуг, а более высокий уровень потребления обеспечивает повышение уровня жизни.
Уже в теориях меркантилистов проблема обеспечения долговременного экономического роста, которая играет ключевую роль в процветании или упадке державы, занимала центральное место.
Английская классическая школа не имела отдельной теории экономического роста. Однако она занималась факторами роста национального богатства и его соотношением с распределением дохода. Вопрос о том, чем определяется прирост национального богатства, подразумевался в самом заглавии труда А. Смита: «Исследование о природе и причинах богатства народов».
Наиболее подробно этот круг вопросов освещён в I книге «Основ политической экономии» Дж. Ст. Милля, где сначала рассматриваются все факторы производства, затем причины их роста и динамика их производительности.
Поскольку предполагалось, что величина естественных факторов производства, труда и земли в значительной степени не зависит от человеческих усилий, то в качестве основы экономического роста рассматривалось накопление − инвестирование части общественного продукта, которое приводит к возрастанию капитала. Отсюда большое значение, придаваемое «бережливости» английскими классиками, начиная с А. Смита. Поскольку основное накопление в то время производилось из прибыли капиталистов, то особое значение для экономического роста приобретала норма прибыли, а также распределение дохода, благоприятствующее капиталистам.
…
Что же касается нормы прибыли, то классики считали неизбежным её падение в долгосрочный период в силу действия «закона убывающего плодородия почвы», приводящего к росту ренты землевладельцев, а следовательно, к падению прибыли капиталистов, что вызывает уменьшение накопления и прекращение экономического роста.
Эту пессимистическую точку зрения отстаивали Т. Мальтус и Д. Рикардо, недооценивающие роль технического прогресса.
Схожих взглядов придерживался К. Маркс. Он доказывал тенденцию нормы прибыли к понижению в результате роста органического строения капитала. При этом он, очевидно, исходил из предпосылки, что технический прогресс может быть трудосберегающим, но не капиталосберегающим. В итоге капиталистическое производство теряет стимулы к дальнейшему росту.
С победой маржинализма возобладал статический равновесный подход, и интерес к проблемам роста снизился. Предметом этого направления в экономической теории стало распределение уже созданных редких ресурсов.
В наибольшей степени из теоретиков маржинализма проблемами экономического роста занимался А. Маршалл, который рассматривал факторы экономического роста валового и чистого дохода. Таких факторов было слишком много, а с учётом тех, которые влияют на них, теория становилась многофакторной и слишком сложной, поэтому А. Маршалл не включил её в конечный вариант «Принципов экономической науки».
Теория экономического роста развивалась в форме абстрактных моделей, обосновывающих взаимосвязь и взаимозависимость основных факторов производства и темпов его расширения. Стимул в создании такой теории – необходимость государственного регулирования роста рыночной экономики. И если сам Дж. М. Кейнс не рассматривал проблемы долгосрочного экономического роста, то его исследования послужили основанием для появления кейнсианского варианта теории экономического роста. Попытка формализовать условия экономического роста привела в 1930-е гг. к появлению моделей роста, первой из которых считается модель Харрода – Домара
2.2. Модель Харрода – ДомараАнгличанин Рой Харрод (1900 – 1978) и американец Евси Домар (1914 – 1997) почти одновременно разработали концепцию экономического роста в конце 30-х – 40-е гг. ХХ века. В основе её лежат две предпосылки.
Первая – рост общего выпуска определяется только одним фактором – долей инвестиций в национальном доходе. Все остальные факторы: увеличение занятости, степень использования оборудования, улучшения в организации производства, – отражающиеся на росте капиталоотдачи (У/К), исключаются.
Тогда и спрос на капитал при данной капиталоёмкости (k=К/У) или капиталоотдаче (1/k=У/К) определяется только темпом роста национального дохода.
Вторая предпосылка: сама капиталоёмкость не зависит от соотношения цен на факторы производства. Она определяется лишь техническими условиями производства, которые сохраняют её неизменной вследствие неизменного характера НТП: К/У=const.
Сбережения S есть фиксированная часть национальногодохода У, определяемая неизменной нормой сбережения (s), откуда
S = sY . ( 2.2.1)
Инвестиции I равны изменению объёма капитала K, то есть
I = ∆ К. ( 2.2 .2)
Поскольку объём основного капитала К напрямую связан с национальным доходом и объёмом выпуска У через коэффициент капиталоёмкости k, то К/У=k
или ∆ К/ ∆У = k ,
откуда ∆ К = k ∆У. (2. 2.3)
Связь между долей инвестиций в национальном доходе и капиталоёмкостью строится на основе кейнсианской предпосылки о равенстве инвестиций (I) и сбережений (S): I = S. ( 2.2.4)
Из выражения (2.2.1) известно, что S=sY, а из выражений (2.2.2) и (2.2.3) cледует, что I =∆ К = k ∆У.
Отсюда равенство (2.4) между сбережениями и инвестициями можно записать следующим образом: S = sУ = k ∆У= ∆ К= I , (2.2.5)
или просто s У = k∆У. (2.2.6)
Разделив обе части равенства на У, затем на k,получим
∆У /У = s / k . (2.2.7)
Левая часть равенства (2.7) не что иное как темп роста валового продукта, т.е. темп роста экономики.
Поскольку в условиях равновесия I = S , а S = sY , темпы роста объёма выпуска и национального дохода равны темпам роста инвестиций:
∆У /У =∆ I /I = s / k.
Выражение (2.7) – это упрощённая форма известного уравнения из теории экономического роста Харрода – Домара, из которого следует, что темп роста валового продукта (и национального дохода) находится в прямой зависимости от нормы сбережений и в обратной – от коэффициента капиталоёмкости.
Основной акцент в модели сделан на темпы роста национальных сбережений, определяющих в конечном итоге и темпы экономического роста, и объёмы инвестиций в национальную экономику. Длительное время этот тезис являлся фундаментальным при разработке национальной экономической политики. Представление о том, что рост пропорционален инвестициям, не ново. Е. Домар заметил, что более раннее поколение экономистов, крайне озабоченных вопросами роста, – советские экономисты 1920-х гг. – уже использовали ту же идею.
Таким образом, рецепт развития был крайне прост: наращивание объёма сбережений. Специалисты по развитию считали, что бедные страны настолько бедны, что у них нет особых надежд на рост объёма собственных сбережений. Это приводило к несоответствию между «требуемыми инвестициями» и реальным уровнем национальных сбережений. Существующий «дефицит финансирования» в этом случае должны заполнить западные доноры, что приведёт к достижению требуемого объёма инвестиций и, в свою очередь, обеспечит достижение целевых показателей экономического роста.
Экономисты, защищавшие данный подход, не очень хорошо понимали, сколько времени понадобится на то, чтобы помощь привела к увеличению инвестиций и, соответственно, к увеличению темпов роста. Но на практике они ожидали быстрых результатов: помощь этого года пойдёт на инвестиции этого же года, что отразится на росте ВВП в следующем году.
В развивающихся странах модель роста Харрода – Домара была применена впервые при определении темпов роста первого пятилетнего плана Индии 1951 –
1956 гг. Модель была подвергнута некоторой модификации американским экономистом Х.Б. Зингером. Вскоре стало очевидным, что даже с учётом внесённых уточнений, с её помощью невозможно обеспечить качественный прогноз на будущее и тем более использовать её как инструмент для выработки экономической политики.
Основные выводы модели легли в основу теорий «большого толчка» («big push») и перехода к «самоподдерживающемуся росту». Достижение нормы накопления, достаточной для поддержания целевого темпа роста в будущем символизирует собой переход страны к «самоподдерживающемуся росту». Выводы модели широко использовались, в частности, для расчёта необходимых ресурсов, получаемых в качестве помощи от иностранных государств. Эту модель позже называли моделью «дефицита сбережений». Один из существенных недостатков модели состоит в том, что анализ факторов роста ограничен капиталом и из поля зрения выпадают естественные и трудовые ресурсы.
2.3. Модель экономического роста с двумя дефицитами.Дальнейшее совершенствование модели «дефицита сбережений» шло как в направлении её детализации и уточнения в соответствии с особенностями развивающейся экономики (учёта внешнеэкономических связей и т.п.), так и по пути разработки моделей для более низких уровней экономики развивающихся стран: секторного и отраслевого.
Модель экономического роста с двумя дефицитами (two gaps model) была разработана в 60 – 70-е гг. группой американских исследователей – X. Ченери, М. Бруно, А. Страутом, П. Экстейном, Н. Картером и др. Она представляет собой систему средне- и долгосрочных регрессивных моделей, в которых темп роста определяется в зависимости от дефицита внутренних (дефицит сбережений) либо внешних (торговый дефицит) ресурсов. Модель включает три основных элемента: во-первых, расчёт необходимых ресурсов, получаемых как разность сбережений (S) и инвестиций (I); во-вторых, вычисление внешнеторгового дефицита: экспорт (X)минус импорт (М); в-третьих, определение абсорбционной (поглотительной) способности, понимаемой как максимальный объём капитальных ресурсов, которые развивающаяся страна способна производительно использовать в данный момент. Поэтому в статике модель можно записать следующим образом:
У ≡ Q;
У ≡ C S M;
Q ≡ C I X;
I-S ≡ M-X,
Дефицит Торговый
сбережений дефицит
где У – доход, Q – выпуск, С — совокупное потребление, S – валовые внутренние сбережения, I – валовые внутренние инвестиции, X – экспорт, М – импорт.
Разница между валовыми внутренними инвестициями и валовыми внутренними сбережениями может быть компенсирована иностранной помощью: I — S= F→I = S F.
Разница между экспортом и импортом также может быть компенсирована иностранной помощью: М — Х = F→ М = Х F.
Объём иностранной помощи для обеспечения предусмотренного политикой модернизации заданного целевого темпа роста определяется наибольшим из этих двух дефицитов. Помощь осуществляется не только для того, чтобы уменьшить внутренний и внешний дефициты, но и для того, чтобы с течением времени либо вообще отказаться от иностранной помощи, либо значительно снизить её величину.
Проделанный X. Ченери и А. Страутом анализ 50 развивающихся стран показал, что средние темпы прироста сбережений составили в 1957 – 1962 гг. 6 – 8%, а максимальные – 12 – 15%. Эти последние и были приняты в качестве абсорбционной способности стран «третьего мира». Максимальные темпы прироста сбережений обеспечивали при этом ежегодный темп прироста ВНП на уровне 5 – 7%. Поэтому в динамике объём иностранной помощи рассчитывался по формуле
Ft = F0 ( β × k — ά́׳)( Yt –Y0 ), (2.3.1)
где Ft–требуемый объём помощи в период времени t; β – максимально возможный темп роста инвестиций; k –приростный капитальный коэффициент (IСОR); ά́׳ – предельная норма сбережений или предельная склонность к сбережениям (ά׳= ∆Ŝ/∆У, где ∆Ŝ – потенциальные внутренние сбережения).
Предполагается, что первая стадия модернизации закончится тогда, когда темп роста инвестиций сравняется с темпом роста ВНП. Допустим, что это произойдёт в момент времени t = т. Тогда Iт = k řУт , где ř –целевой темп роста ВНП.
В зависимости от того, какой именно дефицит преобладает, наступает вторая или третья стадия модернизации.
Компенсировать нехватку внутренних сбережений может импорт иностранных товаров и услуг, однако целью данной стадии модернизации является обеспечение таких условий, при которых этот приток должен постепенно уменьшаться. Это достигается при ά́‘ > k ř, тогда S= I, М→ 0, где М – требуемый объём импорта товаров и услуг.
Для ликвидации внешнеторгового дефицита необходимо перераспределить внутренние инвестиции таким образом, чтобы этот дефицит был ликвидирован. Допустим, что третья стадия модернизации начнется в момент времени t= п. Тогда
Ft= Мt—Хt =Мn μ'(Уt — Уп) — Хп(I х)t—n, (2.3.2)
где μ’ – предельная склонность к импорту (μ’ = ∆М/∆У); х – темп роста экспорта, рассчитанный экзогенно (характеризует меры государства по стимулированию экспорта).
Дефицит торгового баланса будет ликвидирован, если х > ř, а μ'< μср, где μср – средняя склонность к импорту. Достаточный объём сбережений находится как
S= I — Ft = k řУt — Ft . (2.3.4)
Рост объёма потенциальных сбережений не только обеспечит внутренние потребности в капиталовложениях, но и позволит со временем полностью отказаться от иностранной помощи (если Ŝ > I ).
Решая проблему нехватки сбережений, экономика одновременно избавляется от торгового дефицита и, наоборот, решая проблему нехватки торгового дефицита, одновременно решает проблему дефицита сбережений. Всё зависит в конечном счёте от правильного выбора целевого темпа роста ВНП и мер, которые обеспечивают его достижение. Поэтому существует такая точка, в которой стратегии пересекаются, она и определяет целевой темп роста ВНП.
Описанная модель модернизации была разработана для Израиля. В дальнейшем она была значительно усовершенствована и широко применялась для определения размеров иностранной помощи в странах Азии и Латинской Америки. В 1972 г. X. Ченери и Н. Картером была осуществлена корректировка модели с целью показать влияние прироста иностранных ресурсов и экспорта на размеры внутренних сбережений. Поэтому формула для определения потенциальных сбережений была уточнена:
Ŝ = S0 Ŝ1 × У Ŝ2× F Ŝ 3 × X , (2.3.5)
где Ŝ1, – предельная склонность к сбережениям; Ŝ2, Ŝ 3 – коэффициенты, отражающие влияние прироста иностранных ресурсов (F) и экспорта (X) на размер внутренних сбережений (S).
По принципу теоретической модели с двумя дефицитами в 70-е гг. было составлено около 30 практических моделей модернизации для ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) и 10 – для ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана).
Модель с двумя дефицитами есть дальнейшая конкретизация идеи «большого толчка». Её цель – проследить взаимосвязь развития внутреннего накопления и внешних источников финансирования. Она явно недооценивала внутренние ресурсы развивающихся стран, что объективно вело к завышению потребности в иностранной помощи и в конечном счёте – к стремительному росту внешнего долга. Усиление внешнеэкономической зависимости вызвало резкую критику кейнсианской модели со стороны леворадикальной политической экономии.
Рассмотренные модели экономического роста были ориентированы на использование такого ограниченного в развивающихся странах фактора, как капитал, и явно не учитывали возможности использования такого относительно избыточного фактора, как труд. Это и определило справедливую критику неокейнсианского направления со стороны неоклассиков.
Ещё одним заметным недостатком этой модели является фактическое обоснование вмешательства стран-доноров во внутренние дела стран-должников. Существенным недостатком оказался весьма агрегированный (приблизительный) характер модели. В условиях ограниченности и ненадёжности статистической информации многие важные показатели модели (например, определение абсорбционной способности экономики развивающихся стран) носят чрезвычайно условный характер, что снижает ценность полученных с их помощью прогнозов и рекомендаций.
2.4. Модель Р.Солоу.В 1950-е гг. было обращено внимание на тот факт, что модель Харрода – Домара позволяет описать лишь краткосрочный экономический рост, поскольку в долговременной перспективе рост ВНП ограничивается темпами роста населения (или рабочей силы). Реакцией на это открытие явилось создание в 1957 г. американским экономистом лауреатом Нобелевской премии Робертом Мертоном Солоу (р. 1924), неоклассической модели экономического роста. В отличие от посткейнсианских моделей роста в неоклассических коэффициент капиталовооружённости труда не является постоянным, а меняется в зависимости от состояния конъюнктуры. Для этого кроме технической взаимозаменяемости факторов производства необходима предпосылка неоклассической концепции о господстве совершенной конкуренции на рынках факторов. Отсюда происходит название этих моделей.
В своей модели Р. Солоу использовал классическую производственную функцию Кобба – Дугласа:
У = КaL1-а,
где У – объём выпуска, К –капитал, L –труд и 0 < а < 1, и трансформировал её, введя технологическую константу А: У = А∙ Кa∙L1-а. Воздействие технического прогресса в модели Солоу выражается в приросте эффективности труда, который происходит с постоянным темпом. Предполагается, что данный тип технического прогресса должен вывести на устойчивый уровень капиталовооружённости, обеспечивающий постоянную эффективность труда.
Предложение в этой модели описывается производственной функцией Кобба – Дугласа, в которой труд и капитал являются хорошими субститутами и сумма коэффициентов эластичности выпуска по факторам равна единице (постоянная от масштаба):
Y = F (K1L) = Ka L1-a,
L1-a,
то есть m  Yt = f (m
Yt = f (m  Kt, m
Kt, m  Lt),
Lt),
пусть , тогда
, тогда  ,
,
отсюда видно, что объём производства на одного работника  , является функцией капиталовооружённости одного работника
, является функцией капиталовооружённости одного работника  .
.
Условимся, что будем использовать малые буквы для тех количественных показателей, которые относятся к одному рабочему:
 –производительность труда;
–производительность труда;
 – капиталовооружённость труда.
– капиталовооружённость труда.
Тогда производственную функцию можно записать y = f(k), где f(k) = F(k,1), то есть производительность работника определяется его капиталовооружённостью. Построим график этой производственной функции (рисунок 2.4.1):
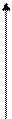
 y f(k)
y f(k)
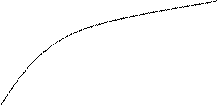 Выпуск на одного
Выпуск на одного
 работника
работника
 a MPk
a MPk
 1
1

0 k Капиталовооружённость
одного работника
Рисунок 2.4.1 – Производственная функция
tg a = MPk, то есть тангенс угла наклона данной производственной функции показывает, сколько дополнительной продукции на одного работника можно получить, если увеличить капиталовооружённость на одну единицу. Угол наклона функции уменьшается, то есть она характеризуется понижающейся предельной производительностью капитала.
Солоу упрощает анализ экономики, предполагая, что нет государства и внешней торговли. Тогда спрос на произведённый продукт – это спрос со стороны домохозяйств (потребителей) и фирм (инвесторов), то есть продукция, произведённая каждым работником делится между потреблением и инвестициями, в расчёте на одного рабочего: y = c i , а функция потребления
с = (1-S)  Y, (2.4.1)
Y, (2.4.1)
где S – норма сбережения  . Отсюда
. Отсюда
Y = (1-S)  y i , упрощая получаем i = s
y i , упрощая получаем i = s y.
y.
Таким образом, инвестиции (как и потребление) пропорциональны доходу.
Если i = s, норма сбережений s также показывает, какая часть произведённой продукции направляется на капиталовложения.
Представив две главных составляющих модели Солоу – производственную функцию и функцию потребления, можно проанализировать, как накопление капитала обеспечивает экономический рост.
Запасы капитала могут меняться по двум причинам:
— инвестиции приводят к росту запасов капитала;
— часть капитала изнашивается, то есть амортизируется, что приводит к уменьшению запасов капитала.
Инвестиции в расчёте на одного работника i = sy, а y = f(k), тогда i = s f(k). Отсюда, чем выше уровень капиталовооружённости (k), тем выше объём производства f(k) и больше инвестиции (i).
f(k). Отсюда, чем выше уровень капиталовооружённости (k), тем выше объём производства f(k) и больше инвестиции (i).
Представим графически (рисунок 2.4.2):
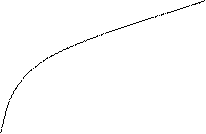 f(k)
f(k)
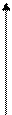 y
y
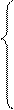
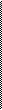
 c
c
sf(k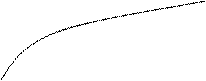 )
)
 y
y
i
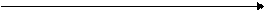
0 k k
Рисунок 2.4.2 – Производство, потребление и инвестиции
Хорошо видно, как норма сбережений (s) определяет разделение продукта на потребление и инвестиции для каждого из значений капиталовооружённости.
Чтобы учесть в модели амортизацию, предполагаем что ежегодно выбывает определённая доля капитала – s – норма выбытия. (Например, если станок служит 10 лет, то s = 0,1, а если 5 лет, то s = 0,2).
Таким образом ежегодно выбывающее количество капитала = s k. Из графика видно, что выбытие пропорционально запасам капитала (рисунок 2.4.3).
Тогда изменение запасов капитала на 1 работника (Dk)
Dk = i — s k , так как i = s f(k),
отсюда Dk = s f(k) — s k
Покажем графически:




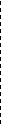
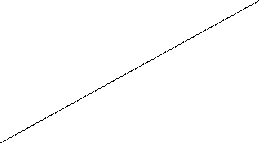
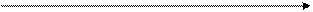 s k
s k
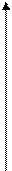 i
i
А sf(k)
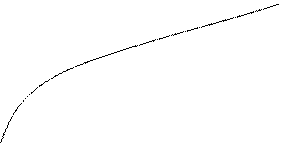 i* = s k* s k
i* = s k* s k
i1
s k1
0 k1 k* k
Рисунок 2.4.3 – Инвестиции, выбытие и устойчивый уровень капиталовооружённости
В точке А выбытие капитала компенсируется инвестициями s k = s f(k), поэтому k* – единственный уровень капиталовооружённости, который не будет меняться во времени. Тогда k* – устойчивая капиталовооружённость. Устойчивый уровень капиталовооружённости соответствует равновесию экономики в долгосрочном плане. Независимо от первоначального объёма капитала, с которым экономика начинает развиваться, она достигает затем устойчивого состояния. Докажем это.
Пусть k1 < k*, при k1, как видно на графике i1 > s k1, следовательно капиталовооружённость растёт, что приводит к росту производства до тех пор, пока не приблизится к устойчивому уровню капиталовооружённости (k*).
При k2 > k* всё будет происходить наоборот.
Таким образом, если экономика не находится в устойчивом состоянии, то независимо от размера капитала на одного работающего начинают действовать силы, приводящие её к долгосрочному устойчивому равновесию. Параметр, обеспечивающий равномерный рост в модели Солоу – капиталовооружённость труда. Динамические системы, в которых переменные обладают свойством автоматически возвращаться к состоянию устойчивого равновесия, называются стабильными системами. То есть модель роста Солоу описывает стабильный динамический процесс роста.
Может ли более высокий уровень сбережений обеспечить высокий экономический рост?
Рассмотрим, что происходит в экономике с изменением нормы сбережений. Пусть норма сбережений (S) растёт с S1 до S2(рисунок 2.4.4)
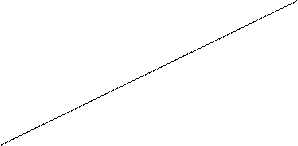 s k
s k
 i s k S2 f(k) = i2
i s k S2 f(k) = i2
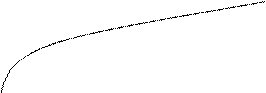
 S1 f(k) = i1
S1 f(k) = i1
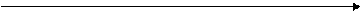 0 k1 k2 k
0 k1 k2 k
Рисунок 2.4.4 – Рост нормы сбережений
После увеличения нормы сбережений с S1 до S2 инвестиции возрастают, но инвестиции больше выбытия (Ii > s k1), что приводит к росту капитала до тех пор, пока экономика не достигает нового устойчивого состояния k c большей капиталовооружённостью и более высокой производительностью труда, чем в исходном периоде.
Модель Солоу показывает, что норма сбережений является ключевой детерминантой величины устойчивой капиталовооружённости. Следовательно, если норма сбережений более высока, то экономика будет иметь при прочих равных условиях больший запас капитала и более высокий уровень производства.
Теоретические выводы подтверждаются эмпирическими данными: страны, которые направляют значительную часть дохода на сбережения (и инвестиции), имеют более высокий уровень душевого дохода.
Существует ряд устойчивых состояний экономики в зависимости от нормы сбережений. Какое же является наилучшим? Очевидно, что конечной целью экономического роста является увеличение экономического благосостояния общества, т.е. наиболее высокий уровень потребления.
Уровень накопления капитала, обеспечивающий устойчивое состояние с наивысшим уровнем потребления, называется золотым уровнем накопления капитала.
Чтобы найти потребление в устойчивом состоянии, вспомним, что y = c i, тогда c = y – i. Заменим значением y и i на их величины в условиях устойчивого уровня капиталовооружённости y = f(k*),
при этом I = s k*, тогда
с* = f(k*) — s k*. (2.4.2)
Устойчивый уровень потребления есть разница между выпуском и выбытием капитала в устойчивом состоянии. Повышение капиталовооружённости двояко воздействует на величину потребления:
— способствует росту выпуска продукции;
— требует всё больше продукции для возмещения выбытия капитала (рисунок 2.4.5)
s k* 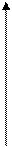
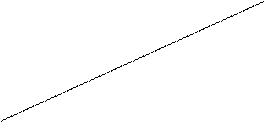 f(k*)
f(k*)

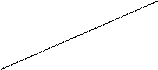 Производство
Производство
и выбытие

 капитала в
капитала в
устойчивом с**

состоянии

0 k** k*
Рисунок 2.4.5 – Устойчивый уровень потребления
Видно, что существует единственный уровень капиталовооружённости – уровень золотого правила k**, при котором душевое потребление достигает максимального значения.
К этому же выводу можно прийти другим путём.
k* – начальная капиталовооружённость. Пусть она увеличивается до k* 1, тогда объём дополнительного выпуска продукции
D y = f(k* 1) – f(k*), (2.4.3)
правая часть равенства не что иное, как предельный продукт капитала (МPK).
Если Dk = 1, то прирост выбытия равен норме выбытия, то есть s. Чистый эффект от дополнительной единицы капитала равен увеличению потребления
D с = MPK — s. (2.4.4)
В условиях золотого правила накопления потребления максимально. То есть любой другой запас капитала приводит к уменьшению потребления. Поэтому следующее условие составляет само золотое правило:
MPK = s. (2.4.5)
По-другому, если выполняется золотое правило, то MPK — s = 0.
Мы рассмотрели базовую модель Солоу, но для объяснения фактических темпов роста, которые имеет та или иная страна, необходимо включить в модель другие источники экономического роста: рост населения и технологический прогресс.
Рост численности работников ведёт к сокращению капиталовооружённости каждого из них. Пусть темп роста населения равен темпу роста рабочей силы:
n =DL/L. Изменение запаса капитала, приходящегося на одного работника, будет определяться следующим образом:
Dk = i — sk – nk.
Помня, что i = s f(k), преобразуем Dk = s f(k) – (s n)k.
Составляющая (s n)k может рассматриваться как критическая величина инвестиций. Это инвестиции, необходимые для поддержания запаса капитала, приходящегося на одного работника, на постоянном уровне.
Тогда график устойчивой капиталовооружённости с усложнением модели может быть представлен следующим образом (рисунок 2.4.6):
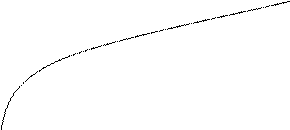
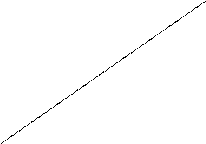
 (s n)k
(s n)k
i sf(k)

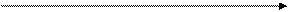 0 k* k
0 k* k
Рисунок 2.4.6 – Рост населения в модели Солоу
Рассмотрим две страны, в которых население увеличивается разными темпами: n1 и n2, причём n1 < n2 (рисунок 2.4.7):
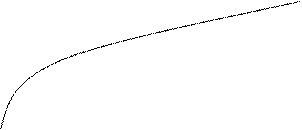
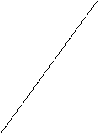 i
i  (s n2)k (s n1)k sf(k)
(s n2)k (s n1)k sf(k)
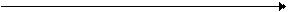
0 k2 k1 k
Рисунок 2.4.7 – Влияние роста населения
Графически ясно, что более высокие темпы роста населения вызывает тенденцию обнищания страны, поскольку уровень капиталовооружённости сокращается, а следовательно, уменьшаются и объёмы выпуска и доходы. Эмпирические данные совпадают с выводами модели Солоу и свидетельствуют, что темп роста населения является одной из детерминант уровня жизни в стране.
Теперь включим в модель технический прогресс. Предполагается трудосберегающая форма технического прогресса. Предполагается, что технический прогресс осуществляется путём роста эффективности труда Е с постоянным темпом g. Тогда (L  E) – численность условных единиц труда с постоянной эффективностью Е. Чем больше Е, тем больше продукции может быть произведено данным числом работников.
E) – численность условных единиц труда с постоянной эффективностью Е. Чем больше Е, тем больше продукции может быть произведено данным числом работников.
Тогда  , а
, а  .
.
В состоянии устойчивого равновесия уровень капиталовооружённости k¢* уравновешивает, с одной стороны, влияние инвестиций, повышающих фондовооружённость, а с другой стороны, воздействие выбытия, роста числа занятых и технологического прогресса, снижающих уровень капитала в расчёте на эффективную единицу труда:
Dk = s f(k¢) – (s n g) k¢. (2.4.6)
Как нам известно, капитал на единицу труда с постоянной эффективностью k в устойчивом состоянии неизменен.
Если Dk = 0, то
s f(k¢) = (s n g) k¢. (2.4.7)
Вспомним, что количество единиц труда, с постоянной эффективностью приходящихся на одного работника, растёт с темпом g. Следовательно, выпуск на одного работника Y/L = y  E также растёт темпом g.
E также растёт темпом g.
Модель Солоу показывает, что только технологический прогресс может объяснить непрерывно растущее благосостояние.
С учётом технологического прогресса изменяются условия выполнения «золотого» правила. Теперь устойчивый уровень потребления максимизируется, если MPK = s n g или MPK — s = n g. (2.4.8)
Рассмотренная нами модель носит довольно общий характер и не учитывает целый ряд реальных ограничений экономического роста (социальных, экологических и т.д.) Несмотря на это, было предпринято несколько попыток конкретизации анализируемой модели на примере стран третьего мира.
Применение модели в чистом виде для развивающихся стран не может дать такие же результаты, как и в развитых странах, поскольку в ней делается акцент на капиталоёмких технологиях (типичных для развитых стран), а основа технического прогресса видится прежде всего в роста капиталовооружённости труда. В 80 – 90-е годы предпринимались попытки уточнить и дополнить модель Солоу. В частности, путём включения в неё человеческого капитала. Эти попытки принадлежат Р. Лукасу, Г. Мэнкью, Д. Ромеру и Д. Уэйлу.
2.5. Модель Солоу и проблема сходимости.Важное значение в модели Солоу имеет тезис о сходимости (конвергенции). Действительно, если две страны имеют одинаковую производственную функцию, темп роста населения (N), норму выбытия (σ) и норму сбережения (S), то очевидно, что они стремятся к одному и тому же уровню капиталовооружённости k*. Поскольку их устойчивые состояния совпадают, бедная страна будет расти быстрее. Таким образом, бедная страна в конце концов достигнет уровня развития богатой.
Существуют различные подходы к проблеме конвергенции. Концепция абсолютной конвергенции предполагает, что бедные страны растут быстрее богатых и разница уровня среднедушевого дохода постепенно снижается независимо от характеристик экономики. Обычно рассматривается два типа абсолютной конвергенции: 1) β – конвергенция означает, что для относительно более бедных стран характерны более высокие темпы роста, чем для богатых; 2) δ – конвергенция означает уменьшение разброса в подушевом доходе с течением времени.
Можно показать, что наличие β – конвергенции не предполагает обязательно, что будет иметь место δ – конвергенция.
Естественно, что развивающаяся страна имеет первоначальный уровень капиталовооружённости (k1) более низкий, чем развитая (k2), и обе страны имеют уровень капиталовооружённости ниже равновесного(k*): k1< k2 < k*. Это означает, что она должна иметь первоначально и б
§
3.1. От теорий роста к теориям развития.Первоначально длительное время экономическое развитие отождествлялось с экономическим ростом, который трактовался как рост валового национального продукта или увеличение подушевого дохода, т.е. способность страны наращивать производство более высокими темпами, чем прирост населения. Экономический рост, как мы уже выяснили, в основном – количественная характеристика процесса производства, показателями которого служат темпы ежегодного или среднегодового (за определенный период) прироста валового национального продукта, или национального дохода страны.
Серьёзные сомнения по поводу правомерности отождествления экономического роста и экономического развития и сведения экономического роста к росту подушевого дохода были порождены неудачным опытом независимого развития бывших колоний. Во многих развивающихся странах в 1950 – 1960-е гг. были достигнуты высокие темпы роста ВНП и показателя подушевого дохода, однако в подавляющем большинстве случаев им так и не удалось повысить жизненный уровень населения. Анализ основных аспектов взаимосвязи экономического роста и социального развития показывает, что экономический рост должен рассматриваться не как благо само по себе, а как средство, которое может привести к улучшению общественного благосостояния.
…
Исторический опыт развития развивающихся стран привёл к осознанию несостоятельности традиционной трактовки экономического развития как экономического роста. Французские экономисты – последователи школы Ф. Перру, проведя критический анализ опыта развивающихся стран в 60-е годы, предложили разграничивать понятия «экономический рост» и «экономическое развитие». Таким образом, к началу 70-х годов ХХ столетия сформировалось понятие «экономическое развитие», которое вышло за рамки термина «экономический рост» и характеризует страну с «качественных сторон». С этого времени развитие рассматривается как многоплановый процесс, существенное воздействие на который оказывают факторы социального и политического порядка. Понятие «экономическое развитие» обогащается качественными признаками: структурой национальной экономики, соотношением добывающих и обрабатывающих отраслей, структурой экспорта, уровнем образования населения страны, состоянием здравоохранения и культуры, структурой потребностей населения и т.д.
Экономический рост и развитие связаны между собой: экономический рост не только повышает благосостояние не только материально, но и создаёт условия для социального развития общества, способствует всестороннему развитию индивида, поддержанию социальной справедливости в обществе.
Социальное выражение экономического роста рассматривается в ограниченном числе количественных и качественных характеристик, включающих развитие и обогащение потребностей человека, расширение свободы его выбора, освобождение от социального неравенства. Эти критерии непосредственно характеризуют условия жизни людей, и в конечном итоге в них проявляются основные социальные процессы.
Уточнение понятия «экономическое развитие», включение в него социально-экономических параметров, явилось шагом вперёд в понимании проблем, стоящих перед молодыми независимыми государствами. Оно имело не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку облегчало формирование грамотной целеустремленной политики, направленной на преодоление отсталости развивающихся стран.
В настоящее время экономическое развитие принято определять как процесс, в ходе которого в течение длительного периода времени отмечается рост реального подушевого дохода населения страны при одновременном соблюдении двух условий: 1) сокращения, либо сохранения неизменным числа живущих, за чертой бедности; 2) сохранения или уменьшения степени неравенства в распределении доходов.
Всемирный банк в своём докладе (1991 г.) даёт определение экономического развития не только как процесса качественного вообще, но и конкретно нацеленного на развитие человека. «Целью развития, – пишется в «Докладе…», является улучшение качества жизни. Улучшение качества жизни, особенно в беднейших странах, означает прежде всего увеличение доходов, но не только это, оно включает в себя, в частности, лучшее образование, питание и здравоохранение, сокращение масштабов нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы и более насыщенную культурную жизнь»[6].
Кроме этого процесс экономического развития подразумевает и осуществление структурных преобразований национальной экономики:
• увеличение доли промышленности и падение доли сельского хозяйства в ВВП;
• урбанизацию, т.е. увеличение численности городского населения;
• изменение структуры потребления населения (уменьшение доли расходов на продовольствие и рост доли других компонентов).
Очевидно, что экономический рост должен осуществляться без снижения качества социальных услуг и подрыва социальных ценностей, а также повышать общественное благосостояние не только материально, но и способствовать всестороннему развитию индивида, поддержанию социальной справедливости в общества.
Соответственно изменились и критерии оценки экономического развития, на первое место вышли социальные показатели.
3.2. Показатели экономического развития.Часть исследователей пыталась оценить развитие с позиции взаимодействия социальных, экономических и политических факторов. Исследовательский Институт Социального Развития ООН (UNRISD) одним из первых в 1970 г. предложил комплексный индекс социального развития, который включал 16 важнейших (9 социальных и 7 экономических) взаимозависимых показателей.
Эта и другие аналогичные попытки многомерного измерения развития не стали, однако, общепризнанными. Критики подобного подхода к развитию упрекали его сторонников в выборе неверного критерия развития: структурных изменений вместо уровня благосостояния; затрат (число врачей или больничных коек, охват школьным образованием) вместо результатов (ожидаемая продолжительность жизни и степень грамотности) для измерения состояния здоровья и образования.
Ответной реакцией на критику было создание новых показателей, использующих для оценки развития степень удовлетворения основных или базовых нужд населения или качество жизни. Наибольшую известность среди представителей этого второго направления получил Индекс физического качества жизни, разработанный Моррисом Д. Моррисом.
Индекс учитывает три показателя: 1) ожидаемую продолжительность жизни по достижении возраста 1 года; 2) уровень младенческой смертности; 3) распространение грамотности среди взрослого населения.
Сводный индекс рассчитывается как среднеарифметическая величина составляющих. Составляющие социальные показатели оцениваются по шкале от 1 балла (худший вариант) до 100 (лучший вариант). Результаты Морриса свидетельствовали о том, что корреляции между душевым показателем ВВП и величиной Индекса качества жизни была не слишком значительной. Некоторые страны с высоким подушевым уровнем ВНП имели весьма низкую оценку по индексу (в ряде случаев даже ниже средней для бедных стран) и наоборот.
Шри-Ланка, к примеру, при уровне ВНП на душу населения 302 долл. в 1981 г. имела Индекс физического качества жизни вдвое выше, чем Саудовская Аравия с душевым доходом 12 720 долл.
Приведённый пример свидетельствует о возможности существенного улучшения качества жизни ещё до начала существенного роста подушевого дохода.
Начало 90-х гг. ознаменовалось появлением новых подходов к развитию. В 1990 г. в рамках Программы развития ООН (ПРООН) появилась концепция «человеческого развития» или «развития человеческого потенциала», где человеческое развитие понимается как «процесс расширения возможностей выбора для отдельного индивидума». В опубликованном ПРООН в 1990 г. «Глобальном Докладе о человеческом развитии» говорилось: «Человеческое развитие есть процесс расширения возможностей выбора…. Наиболее существенным для человека является возможность вести долгую здоровую жизнь, приобретать знания и иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного существования. Без этого многие другие возможности остаются нереализованным… Поэтому развитие не может быть ограничено ростом дохода и благосостояния. В его центре – человек».
Тогда же, в 1990 г., ПРООН предприняла попытку комплексной оценки социально-экономического развития как промышленно развитых, так и развивающихся стран и впервые опубликовала Индекс человеческого развития (ИЧР) (по-английски Human Development Index).
ИЧР ранжирует страны по восходящей от 0 до 1 балла (высший уровень развития) и представляет собой интегральный показатель, характеризующий такие аспекты человеческого существования, как долголетие, образованность и уровень жизни. Методика расчёта ИЧР достаточно сложна и основывается на трёх показателях (субиндексах): ожидаемой продолжительности жизни в момент рождения; интеллектуальном потенциале, оцениваемом на базе среднего уровня грамотности взрослого населения и среднего количества лет обучения, а также величине реального ВВП на душу населения, скорректированной с учётом паритета покупательной способности.
Значение индекса колеблется от 0 до 1 балла. Низкий показатель ИЧР находится в интервале от 0,00 до 0,50 балла, средний – от 0,51 до 0,79 и высокий – от 0,80 до 1,00.
В связи с растущим признанием метода оценки развития на основе ИЧР несколько меняются взгляды на само развитие.
Поскольку ИЧР делает акцент на целях и результатах развития (продолжительность жизни, интеллектуальный потенциал, возможность выбора материальных благ), а не на средствах их достижения (душевой доход), появляется возможность оценивать характер развития страны и определять приоритеты национальной политики. Выясняется, что ранжирование стран по показателю подушевого дохода далеко не всегда совпадает с их рейтингом по ИЧР. В 1997 г. наивысшее значение ИЧР было у Канады. Норвегии, США, Японии и Бельгии (от 0,932 до 0,923 балла), наименьшее – у Сьерра-Леоне, Нигера, Эфиопии, Буркина-Фасо и Бурунди (от 0.254 до 0,324 балла). В 1990-е гг. отмечалось стремительное снижение ИЧР в России, что объяснялось резким падением ВВП, изменением методики его расчёта и сокращением средней ожидаемой продолжительности жизни. В результате Россия имеет уровень показателя ИЧР, характерный для группы развивающихся стран.
Уточнение понятия «экономическое развитие» было связано и с отражением в нём экологических проблем.
3.3. Устойчивое развитие.Известно, что во второй половине ХХ в. резко усилилась антропогенная нагрузка на природу. Это объясняется не только возрастающими темпами роста населения, но и доминированием использования ресурсоёмких технологий. Расчёты показывают, что с учётом современного уровня технологий природный потенциал Земли позволяет удовлетворять потребности не более 2,5 млрд чел., тогда как численность населения Земли в 2004 г. уже превысила 6,4 млрд чел.
В 1972 г. был обнародован доклад Римского клуба «Пределы роста» (составленного группой известных учёных под руководством супругов Медоузов, научно обосновавших, что через 75 лет мировое сообщество ожидает глобальная катастрофа: будут исчерпаны сырьевые ресурсы, возникнет катастрофическая нехватка продуктов питания, нарушится экологическое равновесие вследствие снижения восстановления в прежнем объёме возобновляемых природных ресурсов (воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира). На основе этого доклада были сформулированы первоначально концепция «нулевого роста», согласно которой следует отказаться от экономического, демографического роста, то есть перейти к схемам простого воспроизводства населения и производственных мощностей с переводом последних на замкнутый технологический цикл с полной утилизацией отходов, а позже концепция «органического роста» с дифференциацией норм роста по различным регионам Планеты в зависимости от достигнутого уровня развития.
При ООН была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию под руководством премьер-министра Норвегии Г. Х. Брундтланд, которая предложила мировому сообществу новую концепцию развития цивилизации под названием «sustainable development», которое было переведено на русский язык как «устойчивое развитие» (УР).
Юридическое закрепление концепция устойчивого развития получила на конференции под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро «Окружающая среда и развитие» (1992 г.), декларацию которой с 27 рекомендательными принципами, лаконично раскрывающими сущность и цели реализации этой концепции, подписали 179 стран мира, в том числе и Россия. В этом же духе выдержаны «Повестка дня на XXI век», являющаяся своего рода программой действий государств по реализации концепции УР, а также Декларация Тысячелетия, одобренная в 2000 г. главами государств – членов ООН.
Существует множество определений УР. Наиболее полным и точным представляется следующее. УР предполагает регулирование условий жизни на базе четырёх принципов: 1) удовлетворение основных потребностей всех ныне живущих людей, 2) равные стандарты этого удовлетворения для всего населения Планеты, 3) бережное, осторожное использование природных ресурсов, 4) сохранение возможностей для будущих поколений реализовать основные запросы. Все названные принципы равноценны, но центральным считается третий, в основе которого лежит идея ограниченной способности природных комплексов к хозяйственным нагрузкам.
В Рио (1992 г.) руководители развитых стран договорились довести прямую помощь развивающимся странам до 0,7% своего ВВП. Но полностью договоренности следуют лишь Норвегияг Швеция, Дания, Нидерланды и Люксембург. Президент Венесуэлы Уго Чавес от имени группы 77 (государства бывшего третьего мира) предложил создать при ООН специальный фонд устойчивого развития, который бы формировался за счёт поступлений от развитых стран, а также от развивающихся стран (за счёт списания 10% их государственного долга). Предполагалось, что эти средства пойдут на охрану окружающей среды и борьбу с голодом. Однако у ряда развитых государств такая постановка вопроса поддержки не нашла. Среди стран, в которых переход к УР идёт медленно, нужно отметить прежде всего США.
Опыт международных проектов, осуществляемых ныне, показывает, что там, где основная ответственность за их выполнение лежит на развивающемся мире, и, главное, если проект не затрагивает напрямую существующий миропорядок, прогресс налицо. В противном случае реализация проектов блокируется. Так произошло с Киотским протоколом, предполагающим обязательства развитых стран ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу, в результате чего должно последовать снижение их темпов экономического роста. Протокол ратифицировали 102 страны, включая все страны ЕС, Японию, Канаду, Китай. Этого не сделали США, а на их долю приходится, по разным оценкам, от 25 до 35% всех выбросов углекислого газа в мире. (Развитые страны потребляют на сегодняшний день около 50% энергии, 80% сырья и производят до 70% мировых отходов). Принудить США присоединиться к соглашению, подписанному в Киото, никто не может.
Лишь недавно ООН добилась включения экологической составляющей в глобальный процесс принятия решений по экономическим вопросам. В 2002 г. главы государств и правительств наконец договорились о серии конкретных обязательств и действий, был подписан План выполнения решений по УР, предусматривающий неотложные меры и конкретные сроки их осуществления на 2002 – 2022 гг., а также ежегодные отчёты каждой страны о выполнении достигнутых соглашений. При этом страновые проекты УР предполагается дифференцировать: для одних стран ставится задача искоренения бедности, для других − переход к модели устойчивого потребления и производства.
Переход к УР в западных странах проявляется прежде всего в наращивании экологизации экономического развития, которая направляется и стимулируется государством, использующим для этого как правовые, так и рыночные инструменты. И их арсенал постоянно пополняется и обновляется по мере ужесточения государственных требований к охране окружающей среды. При этом опережающее по сравнению с другими странами установление экологических стандартов становится важнейшим условием повышения конкурентоспособности, главным образом потому, что стимулирует и ускоряет технологические разработки. В мире растёт число компаний, которые принимают экологический кодекс поведения и руководствуются принципами УР, так как убеждены в том, что завтра победителями на рынке будут те, кто уже сегодня преуспевает в повышении своей экоэффективности.
Этими интересами объясняется и принятие компаниями добровольных обязательств по системе стандартов ISO-14000 – сертификации экологического менеджмента. По имеющимся оценкам, через 10 лет около 90% крупных компаний мира будут сертифицированы в соответствии с ISО-14000.
Выводы. Экономический рост характеризует мощность экономики. Он измеряется показателями темпов роста ВВП (ВНП), а также темпов роста среднедушевого ВВП (ВНП). Но валовой продукт – не точный индикатор благосостояния населения. Целью экономической политики является не столько экономический рост, сколько общественное развитие.
Развитие – процесс качественного совершенствования, прогрессивных изменений в области экономики, политики, культуры, в ходе которых происходит обогащение потребностей человека, расширение свободы его выбора, освобождение от социального неравенства. Показателем общественного развития, используемым в настоящее время для международных сравнений, является Индекс человеческого развития.
Устойчивое развитие предполагает равные стандарты удовлетворения основных потребностей всех ныне живущих людей, и, кроме этого, бережное использование природных ресурсов с целью сохранения возможностей для будущих поколений реализовать основные потребности.
Контрольные вопросы
1. В чём различия в трактовке понятий «рост» и «развитие»?
2. Может ли быть рост без развития и наоборот? Аргументируйте.
3. Какие показатели используют для оценки уровня экономического развития? Какой интегральный показатель, предложенный ООН, позволяет ранжировать страны по уровню развития?
4. Сравните значения ИЧР для развитых и развивающихся стран.
5. Что такое «устойчивое экономическое развитие»?
6. Возможно ли в современных условиях добиться высокого уровня развития, сохраняя закрытую экономику?
Глава 4. Теории развития
4.1. Теория развития Й. Шумпетера.Австрийский экономист Йозеф А. Шумпетер (1883–1950) в своих сочинениях отверг неоклассические представления о развитии как постепенном, гармоничном процессе. Напротив, он утверждал, что значительное возрастание национального продукта происходит в форме дисгармоничных скачков и рывков в результате освоения совершенно новых инвестиционных проектов. Этот процесс неизбежно предполагает чередование сравнительно недолгих периодов процветания и депрессии. Й. Шумпетер отказался от взгляда на равновесие как нормальное состояние экономики, поставив во главу угла её динамику. Он считал, что элемент развития не встречается среди явлений, присущих кругообороту капитала или тенденции к равновесию, но действует на них как внешняя сила. Развитие представляет собой изменение траектории, по которой осуществляется кругооборот, переход экономики к другому состоянию равновесия, носящему дискретный характер.
В основе экономического развития лежат инновационные процессы, суть которых состоит в осуществлении новых комбинаций факторов и условий хозяйственной деятельности. Центральное место в шумпетерианском анализе процесса развития занимает фигура предпринимателя, человека, который действует как новатор. При этом в структуре инноваций Шумпетер различает следующие варианты.
Эволюционный характер этих процессов состоит в том, что в большинстве своём они происходят на уже существующих предприятиях и теми же самыми работниками, лишь применение имеющихся средств – иное.
Осуществление всех нововведений весьма рискованно, их результаты трудно предвидеть, поэтому соответствующие действия предпринимателей представляют собой «прерывистые импульсы», а не постепенный и ровный процесс, как это рисуется в неоклассических представлениях.
С началом фазы оживления в ходе экономического цикла предприниматели, наделённые проницательностью и воображением, распознают новые возможности для извлечения прибыли и принимают меры по их использованию, получая через банки необходимые финансовые средства и с их помощью приобретая контроль над реальными ресурсами. Важным фактором экономического развития, его катализатором Й. Шумпетер считал диффузию инноваций, то есть распространение во времени уже однажды освоенной и использованной инновации в новых условиях или местах применения. В ожидании высокой прибыли эффективная инновация последовательно подхватывалась (имитировалась) группами предпринимателей, которых Шумпетер разделял на «ранних реципиентов», «раннее большинство» и «отстающих». В результате кумулятивного увеличения числа имитаторов возникает волнообразный процесс, аналогичный длинным волнам Н. Д. Кондратьева, новый бум набирает силу. С нарастанием потока товаров, являющихся результатом нововведений, наступает период «творческого разрушения», когда некоторые более старые фирмы с высокими издержками вытесняются из данной сферы бизнеса. Выплата ранее взятых займов усиливает дефляционные тенденции, которые не компенсируются новой предпринимательской активностью ввиду того, что степень неопределённости и риска в условиях сложившегося неравновесия очень высока. Прекращение новаторских усилий в свою очередь подталкивает дефляционные тенденции и ведёт к депрессии. Когда процесс необходимого приспособления к использованию последних нововведений завершается, то достигается новое равновесие, которое может послужить началом нового цикла. Однако эта новая стартовая отметка находится на более высоком, чем прежний, уровне дохода, причём оказывается, что от такого прироста выигрывают все основные категории получателей дохода.
Й. Шумпетер не разделял опасений о возможности для экономики статичного состояния на низком уровне вследствие действия закона народонаселения Мальтуса и сокращения отдачи от ограниченных естественных (земельных) ресурсов. Не видел он оснований и для прогнозов об усилении классовых конфликтов, ибо, по Шумпетеру, нововведения приносят значительные выгоды и рабочим. Тем не менее он придерживался пессимистического взгляда на будущее капитализма, поскольку самые успехи этой системы оказывают разрушительное воздействие на общественные институты, призванные её защищать. Процесс нововведений приобретает упорядоченно-рутинный характер. Концентрация и укрупнение хозяйственных единиц разрушают жизнеспособность таких основополагающих капиталистических институтов, как частная собственность и свобода заключения коммерческих соглашений. Антикапиталистически настроенные интеллектуалы и усиливающееся рабочее движение нарушают бесперебойное функционирование политической структуры, в рамках которой развился капитализм, и это создаёт климат, неблагоприятный для нового взлёта капиталовложений.
Разработанный Шумпетером эволюционный подход оказал значительное влияние на теоретическую мысль последних десятилетий. Идеи Й. Шумпетера стали основой для возникших в начале 80-х годов эволюционных теорий экономики и новых теорий экономического роста. Эволюционисты (Р. Нельсон, С. Винтер и др.) сосредоточили внимание не столько на процессах производства, распределения и потребления благ, сколько на эволюции субъектов хозяйственной деятельности, усматривая именно в них первопричину изменений экономической системы в целом.
Все современные концепции экономического развития сходятся в конечном счёте на том, что качество интеллектуальных ресурсов и степень их вовлечённости в общественное производство оказывают непосредственное воздействие на темпы экономического роста и уровень национального богатства в отдельных странах. На этой основе возникла новая расширительная концепция национального богатства, в состав которого включается не только материальное богатство общества, созданное трудом многих поколений, и природные ресурсы, но и интеллектуальные ресурсы, или человеческий капитал.
4.2. Теория стадий экономического роста У. Ростоу.О ранних вариантах теории развития (модернизации) дает представление книга американского учёного Уолта Уитмена Ростоу (1916 – 2003) «Стадии экономического роста: Некоммунистический манифест», вышедшая в 1960 г.
Предложенная им теория стадий роста является одной из первых концепций теории экономического развития. Вместо формационного деления автор предложил пять стадий экономического роста, через которые последовательно проходят все страны, причём переход от одной стадии к другой − это естественный спонтанный процесс, опирающийся на мобилизацию сбережений и совершенствование технологий.
Первая стадия − «традиционное общество» (the traditional society) с примитивной технологией, в котором преобладает земледелие и огромную роль играют семейные и клановые связи и зависимости. Это общество структурировано иерархически, политическая власть принадлежит земельным собственникам или центральному правительству.
Вторая стадия − «переходное общество», в котором создаются предпосылки для подъёма, «взлёта» (the preconditions for take-off). Происходит структурная перестройка экономики, особенно существенны изменения в непромышленных сферах экономики: сельском хозяйстве, транспорте и внешней торговле. На второй стадии среднедушевой доход начинает расти, но этот рост не носит устойчивый характер. Появляется новая элита, возникает национализм как реакция на влияние более развитых стран и все это становится движущейся силой перемен.
Третья стадия – «взлёт» (the take-off), когда рост становится нормальным условием. Для того чтобы рост стал автоматическим, самоподдерживающимся необходимы, по мнению У. Ростоу, несколько условий: резкое увеличение доли производственных инвестиций в национальном доходе (от 5 до как минимум 10%); стремительное развитие одного или нескольких секторов промышленности; политическая победа сторонников модернизации экономики над защитниками традиционного общества. Затем первоначальный импульс роста распространяется с одной отрасли на всю экономику страны. Новая техника быстро внедряется в промышленность и сельское хозяйство. В результате возникают и быстро развиваются новые отрасли производства, происходит урбанизация общества. Фактически это стадия ранней индустриализации.
Ростоу пытался показать, что подъём, который происходит при стимулирующей роли инвестиций, представляет собой распространённое явление. Как и на остальных, на Ростоу в значительной степени повлиял опыт сталинской России. Он полностью укладывался в рамки этой схемы.
Четвёртая стадия − «движение к зрелости» (the drive to maturity), когда в экономике формируется многоотраслевая структура, появляются современные отрасли (автомобильная, химическая, электротехническая промышленность, сложное машиностроение), чем завершается процесс индустриализации. Это достаточно длительный этап технического прогресса. В этот период развивается процесс урбанизации, повышается доля квалифицированного труда. Руководство промышленностью сосредоточивается в руках квалифицированных управляющих – менеджеров.
Пятая стадия − образование общества «массового потребления» (the age of high mass consumption). Структура экономики изменяется в пользу сферы услуг и производства технически сложных потребительских товаров длительного Пользования (особенно автомобилей). Появляется потребность в достижении не просто высокого материального благосостояния, но и качества жизни. Одновременно происходят изменения в самой рабочей силе, обусловленные ростом её образовательного и квалификационного уровней, изменением структуры занятости, а соответственно увеличиваются расходы на социальное страхование и социальное обеспечение.
В дальнейшем У. Ростоу выделил шестую стадию − «стадию поиска качества жизни», которой свойственно приоритетное развитие духовной сферы жизни.
По оценкам У. Ростоу, к периоду написания книги (1959) все развитые страны прошли через стадию «рывка» (взлёта) к самоподдерживающемуся росту.) Пятая стадия была достигнута лишь США и Канадой. Что же касается большинства стран мира, то они по-разному распределялись на этой шкале экономической зрелости. К примеру, СССР к 1950 г. вступил в четвёртую стадию зрелости. Развивающиеся страны находятся на стадиях либо традиционного общества, либо создания предпосылок для рывка (взлёта).
Перейти к следующей стадии они могут лишь при выполнении некоторых условий, одним из главных является мобилизация внутренних и иностранных сбережений для инвестирования и ускорения экономического роста.
Ростоу стремился показать странам третьего мира, что коммунизм − «не единственная форма эффективной государственной организации, которая может привести к… взлёту», и предлагал некоммунистический подход: страны Запада снабжают страны третьего мира помощью для покрытия «дефицита финансирования», заполняя разницу между реальным объёмом сбережений страны и объёмом, необходимым для взлёта. Ростоу использовал модель «дефицита финансирования» для того, чтобы рассчитать, какой объём инвестиций необходим для этого «взлёта».
Холлис Ченери, применяя подход «дефицита финансирования», ещё яснее подчеркнул необходимость в национальных сбережениях. Ченери и Алан Страут в 1966 г. по традиции начали с модели, в которой помощь «восполнит временный дефицит между возможностями по инвестированию и возможностями по сбережению». Инвестиции после этого приводят к экономическому росту. Но они также предположили, что в результате повышения дохода будет расти и норма сбережений. Эта норма должна быть достаточно высокой, чтобы страна в конечном счёте могла перейти к «самоподдерживающемуся росту», при котором она осуществляет необходимые инвестиции из собственных сбережений.
Концепция «дефицита финансирования» давала странам-донорам представление о том, в каком объёме нужны данной стране помощь или иное финансирование. Однако, несмотря на инвестиции, финансируемые предоставлением помощи, рост отсутствовал, что не соответствовало выводам модели. Защитники подхода дефицита финансирования выдвинули следующий аргумент: «Хотя физическое накопление капитала может считаться необходимым условием развития, но не является достаточным».
Экономисты международных финансовых организаций применяли концепцию финансового дефицита даже тогда, когда она со всей очевидностью не работала. В период с 1980-го по 1990 г. ВВП Гайаны резко упал при том, что инвестиции выросли с 30 до 42 % ВВП, а международная помощь каждый год составляла 8 % ВВП[7]. Это вряд ли можно было считать триумфом концепции.
Концепция дефицита финансирования использовалась экономистами международных финансовых организаций для обучения чиновников из развивающихся стран.
Выводы.Существует много теорий развития, которые различаются тем, какое значение придают их авторы тем или иным факторам роста и развития.
Й. Шумпетер рассматривал инновации в качестве основы экономического развития, а предпринимателя-новатора в качестве основного субъекта процесса развития. Идеи Й. Шумпетера стали основой для развития эволюционных теорий экономики, которые именно в эволюции субъектов хозяйственной деятельности видят первопричину изменений экономической системы в целом.
Теория стадий экономического роста У. Ростоу предполагает, что все страны последовательно проходят ряд стадий, опираясь на мобилизацию сбережений и совершенствование технологий. Страны третьего мира могут прибегнуть к помощи стран Запада для покрытия «дефицита финансирования». Опыт развивающихся стран свидетельствовал, что эта модель описывает необходимые, но не достаточные условия для экономического роста.
Контрольные вопросы
1. Что лежит в основе экономического развития в теории Й. Шумпетера?
2. Какие типы предпринимателей можно выделить в зависимости от их роли в экономике? Кто является в этой теории главным экономическим субъектом, обеспечивающим развитие?
3. Почему Й. Шумпетера считают основоположником эволюционной экономики?
4. Почему теория У. Ростоу относится к теориям линейного развития? В чём ограниченность подхода к развитию, предложенного Ростоу?
5. Что объединяет теорию У. Ростоу и модель Харрода – Домара?
Глава 5. Теории структурных преобразований
5.1. Теория развития А. Льюиса.Теории структурных преобразованийакцентирует внимание на механизме превращения преимущественно аграрной экономики развивающихся стран в хозяйство с более развитой отраслевой структурой и более высоким уровнем урбанизации.Широко известными примерами подхода структуралистов к развитию являются двухсекторная модель трудоизбыточной экономики Артура Льюиса и эмпирический анализ форм развития Холлиса Ченери.
Одной из известнейших теоретических моделей развития, в центре внимания которой находится структурная трансформацияполунатуральной потребительской экономики, является модель лауреата Нобелевской премии Артура Льюиса (1915 – 1991). Созданная им в середине 1950-х гг., а позднее расширенная и формализованная Джоном Фаем и Густавом Рейнисом в 60-е и начале 70-х гг. двухсекторная модель Льюисабыла господствующей теорией развития для трудоизбыточной экономики стран третьего мира.
В модели Льюиса слаборазвитая экономика является дуалистичной, т.е. состоит из двух секторов:
1) традиционного сектора, с натуральным сельским хозяйством, скрытым перенаселением и нулевой предельной производительностью труда (MPL=0). Для отражения этого Льюис ввёл понятие «избыточная рабочая сила», которую можно изъять из этого сектора, не уменьшая объём производства;
2) высокопроизводительного современного сектора, к которому относится городская промышленность и в который постепенно перемещается рабочая сила из сельского хозяйства.
Основное внимание в модели уделено миграции рабочей силы из деревни в город и росту производства и занятости в современном секторе. Как миграция, так и занятость в современном секторе зависят от экономического роста внутри него, что, в свою очередь, определяется накоплением капитала и уровнем инвестиций в промышленность. Такие инвестиции производятся за счёт реинвестирования прибыли капиталистами современного сектора. Зарплата предполагается фиксированной на уровне, несколько превышающем средние доходы работника традиционного сектора (Льюис полагал, что зарплата в городе должна быть, как минимум, на 30% выше, чем в деревне, что будет создавать достаточные стимулы для миграции). При фиксированной зарплате в городе предложение рабочей силы из деревни рассматривалось Льюисом как абсолютно эластичное.
Как модель Льюиса объясняет изменение структуры экономики в ходе индустриализации развивающихся стран? Обратимся к традиционному сектору на рисунке 5.1бВерхний график показывает изменение производства продукции сельского хозяйства с ростом затрат труда. Это график типичной производственной функции, где продукция ТРАзависит от затрат только одного фактора – труда LА, поскольку объём применяемого капитала К и традиционная технология t остаются неизменными. На нижнем графике справа показаны кривые среднего и предельного продук
§
6.1. «Азиатская драма» Г. Мюрдаля.Если в 40–50-е гг. XX в. ведущую роль в обществоведческом знании о развивающихся странах играла экономическая наука, то в 60–70-е гг. центр тяжести переместился в социологию. Именно значительный прогресс в социологии предопределил тот общий фон, на базе которого в 70–80-е гг. идеи институционализма получили широкое распространение в развивающемся мире. Институционализм, в отличие от классического и неоклассического подхода, исследует экономическое поведение индивидов, обусловленное сложившимися социально-экономическими институтами, поскольку явления экономической жизни невозможно объяснить не принимая во внимание образ и стиль мышления, особенности мироощущения, привычки и традиции, этические нормы.
Пример развитых стран побуждает развивающиеся страны использовать модели их развития. Однако применять эти модели нужно в странах с идентичной институциональной средой, то есть имеющих много общего в культурных, исторических, политических, структурных особенностях. Модели Харрода – Домара и Ростоу молчаливо предполагают наличие тех же исходных условий в развивающихся странах.В иной институциональной среде эти модели работают совершенно непредсказуемо и могут привести к глубочайшему кризису во всех сферах общества. Как показывает практика, некоторые рыночные законы, эффективно действующие в развитых странах и импортируемые в развивающиеся и переходные экономики, дают обратный эффект, замедляя процесс развития страны. Именно институциональный подход позволяет дать объяснение явлениям, перед которыми неоклассика остается бессильной.
…
Наибольшее влияние на социально-экономическую мысль развивающихся стран оказали работы крупного шведского учёного, почётного профессора Стокгольмского университета, эксперта ООН Г.Мюрдаля.
Шведский экономист Карл Гуннар Мюрдаль (1898–1987)вместе с Фридрихом фон Хайеком в 1974 г. стал лауреатом Нобелевской премии за анализ взаимозависимости экономических, социальных и структурных явлений.
В 1968 г. вышла его монография «Азиатская драма. Исследования бедности народов», в которой он рассматривает проблемы развития стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бирмы, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Индонезии).
Мюрдаль доказывает, что поверхностным является взгляд, согласно которому проблемы развития этих стран сводятся лишь к необходимости сдвигов в экономической области. Исследуя структурную перестройку в ходе развития стран Азии, Г. Мюрдаль доказывает, что она всегда сопровождается изменениями в общественных институтах, поведении людей и идеологии. Примерами могут служить общий процесс урбанизации и комплекс институциональных и духовных перемен, который принято называть «модернизацией».
Г. Мюрдаль выделил следующие принципы модернизации:
· Рационализм: замена старого традиционного образа мышления, методов производства, распределения и потребления новыми моделями во всех сферах производства и жизни. Поиск рациональности предполагает, что выбор экономической стратегии и политики должен максимально основываться на знаниях и точных фактах.
· Экономическое планирование: поиск рациональной системы мер экономической политики, нацеленной на ускорение развития
· Равенство: обеспечение более равного социального и правового статуса, доходов и уровня жизни для всех.
· Перемены в общественных институтах и сознании. Это такие перемены, которые повышают производительность труда, стимулируют конкуренцию и предпринимательскую инициативу, открывают более равные возможности для всех, повышают уровень жизни, стимулируют развитие. Институциональные перемены, необходимые для достижения перечисленных целей, включают земельные реформы, борьбу с монополизмом, совершенствование систем образования и государственного аппарата. Что касается общественного сознания, то модернизация означает распространение таких идеалов, как эффективность, трудолюбие, честность, рациональность, опора на собственные силы, готовность к переменам и т.д.
Однако эти принципы в реальных условиях рассматриваемых стран оказываются недостижимыми. Как объективное развитие освободившихся стран, так и субъективное осознание возникших перед народами третьего мира проблем, позволяют говорить о «драме» этих стран. Демографический взрыв сопровождался падением жизненного уровня в ряде развивающихся стран. Он совпал с кризисом надежд на быстрое преобразование традиционного общества, разочарованием в неокейнсианских и неоклассических теориях. Слаборазвитость стала восприниматься не как быстро преодолимое зло, а как драма, центральными фигурами в которой оказались «сами народы Южной Азии и прежде всего интеллигенция»[8].
Г. Мюрдаль рассматривает реальные трудности с которыми сталкивается внедрение принципов модернизации в развивающихся странах. Мюрдаль справедливо обращает внимание на значение азиатских ценностей, которое не замечают большинство западных исследований. Но многие из этих азиатских
ценностей противоречат идеалам модернизации. Критика традиционного общества вступает в противоречие с религиозными оценками, поскольку религия оправдывает традиционную социально-экономическую стратификацию, сложившуюся в этих странах. В этих странах людям присущ сильный естественный консерватизм, поскольку их культура основана на традициях и не содержит, по существу, никаких элементов научного и технического опыта, а следовательно, привычки к экспериментированию. Люди безынициативны, немобильны, не склонны к принятию нового не только в обыденной жизни, но и в сфере производства. По словам первого премьер-министра Индии Дж. Неру, «Новая техника приходит вслед за новым сознанием. Человек не может владеть новым инструментом, сохраняя старый образ мышления». В этих условиях даже освоение заимствованных технологий крайне затруднено.
Государство в третьем мире выступает как решающий фактор общественной эволюции, притом, что отсутствуют такие факторы, как компетентные управленцы, способные планировать и управлять большим количеством проектов, связанных с развитием. В этих условиях планирование не может быть эффективным. Мюрдаль подробно рассматривает значение и специфику планирования в странах региона. Переход к экономическому планированию порожден осознанием крайней бедности и демографическим взрывом.
Фактически экономическое планирование сведено к составлению прогнозов, разрабатываемых правительством в условиях ограниченной статистической информации. В таких условиях планы никогда не выполняются. При этом на практике, как это ни парадоксально, политика планирования ведёт к усилению монополизации производства. Каким образом?
Частный сектор регулируется чиновниками, которые могут либо осуществлять дискреционное регулирование – решать вопросы по праву собственного усмотрения, либо осуществлять регулирование «автоматически в соответствии с установленными правилами» – недискреционное. В странах Южной Азии используется преимущественно первый вид. Всё решают связи и предприниматели, которые сумели «поладить» с правительственными чиновниками, не остаются внакладе, «поскольку им по доступным ценам предоставляются дефицитные ресурсы» и они получают гарантии монопольного или полумонопольного производства и сбыта, что обеспечивает им исключительно высокие прибыли. К тому же для них открываются лазейки в налоговом законодательстве, позволяющие уклониться от уплаты налогов. Предприимчивость на Востоке означает умение ладить с регулирующими органами правительства. Чем больше распространено дискреционное регулирование, тем меньше стимулов «повышать производительность и совершенствовать производственные процессы». Но такое положение устраивает обе стороны: и чиновников, и предпринимателей, реализующих собственные интересы в ущерб интересам развития национальной экономики. Это типичный пример «провала государства» в развивающихся странах.
При таком положении дел во всех странах региона планирование, вопреки его декларируемым целям, не привело «к уменьшению экономического неравенства и ослаблению концентрации экономической власти»[9].
Законы, принятые в ряде стран, не обеспечивают достижения даже формального равенства. Законодательство о труде, об уровне заработной платы и видах социального обеспечения не коснулось большинства — сельского населения, что способствует сохранению социального неравенства. В этих условиях внушить населению уважение к принципу законности, веру в государство как гарант развития невозможно.
Население исстари расколото на отдельные этнические группы, имеющие не только различный уровень жизни, но и различный образ жизни, и взгляды на жизнь. Обретение национальной независимости часто лишь усиливало распри и напряжённость внутри страны. Преодолеть это ограничение на пути развития, по мнению Мюрдаля, необходимо, но это требует очень длительного времени.
Мюрдаль доказывает, что национальная интеграция и экономический прогресс невозможны без широких переспределительных реформ. Многие западные эксперты считали, что для использования «избыточной» рабочей силы в азиатских странах необходимо лишь предоставление работы (в частности, модель Льюиса). Однако ещё в колониальный период существовала парадоксальная ситуация: недостаток рабочей силы в условиях её избытка, и для решения производственных проблем широко практиковалось внеэкономическое принуждение к труду. Чем объясняется такая ситуация? В качестве важнейших причин её назывались лень и нетребовательность рабочей силы, жаркий влажный климат и расовая неполноценность. По мнению Мюрдаля, действительными причинами этого являются плохое питание и слабое здоровье, низкий уровень жизни, институциональные условия и несовершенство рынка труда. Он считает, что кейнсианский подход не применим к развивающимся странам.В отличие от развитых стран, большинство так называемых безработных в странах Азии отнюдь не готовы к выполнению работы в современном секторе из-за неграмотности и плачевного физического состояния, что препятствует их вовлечению в процесс производства, замедляя развитие.
Следовательно, главная причина слаборазвитости заключается не в недостатке иностранного капитала, как предполагалось во многих моделях экономического роста, а в недоиспользовании трудовых ресурсов. Люди, не заинтересованные в своём труде, работают плохо и мало, в большинстве стран не преодолено презрительное отношение к простому физическому труду – это результат господства традиционных «азиатских ценностей».
По существу, Г. Мюрдаль полемизирует с С. Кузнецом, который вывел своеобразную взаимосвязь между неравенством и доходом на душу населения в процессе развёртывания индустриализации развитых стран. Кривая Кузнеца показывает, что на ранних этапах индустриализации снижается доля беднейшего населения в национальном доходе и растёт коэффициент Джини, достигая 0,6 – 0,7 к концу индустриализации. Мюрдаль отстаивает прямо противоположный подход. Он считает, что для подъёма экономики развивающихся стран необходимо ослабление неравенства. «С ростом дохода должны повыситься работоспособность и эффективность труда»[10]. Поэтому главную проблему Мюрдаль видит не в росте нормы накопления капитала, а в обеспечении населения продовольствием таким образом, чтобы стимулировать более интенсивный, более производительный труд.
Согласно Г. Мюрдалю, рост, который не сопровождается улучшением положения большинства населения – это рост без развития, поскольку он оставляет в стороне подавляющую часть населения и осуществляется за счёт неё.Именно исследование Мюрдаля стимулировало подготовку стратегии удовлетворения основных потребностей («basic needs»), рекомендуемую экспертами ООН освободившимся странам в 1970-е гг.
Такой многомерный подход позволяет оценить развитие той или иной страны более глубоко и всесторонне и, главное, поставить проблему развития личности как основную долгосрочную цель. Именно под влиянием институционалистов ООН был разработаниндекс развития человека.
В соответствии с этим подходом проблема инвестиций в производственные фонды уступает проблеме инвестиций в человеческий капитал.
Применительно к развивающимся странам проблему инвестиций в человеческий капитал одним из первых поставил американский экономист, профессор Чикагского университета Теодор Шульц (1902–1998), который за работы по экономике развивающихся стран вместе с Уильямом Артуром Льюисом был удостоен в 1979 г. Нобелевской премии. В своих работах Шульц обосновывает первоочерёдность институциональных изменений.
К инвестициям в человеческий капитал Шульц относит не только прямые затраты на образование в средних и высших учебных заведениях, но и самообразование дома, повышение опыта на работе, а также капиталовложения в сферу здравоохранения, образования и науки. Именно вложения в человеческий капитал, рост ценности человеческого труда становятся важнейшими факторами преобразования экономики, модернизации экономических и юридических институтов. В силу низких доходов и сбережений в развивающихся странах ограничены возможности частных инвестиций в человеческий капитал по сравнению с развитыми, поэтому особое значение принадлежит государству.
6.2. Неоинституциональный подход Э. де Сото. В 1989 г. выходит в свет книга перуанского экономиста Эрнандо де Сото (род. 1941 г.) «Иной путь. Невидимая революция в третьем мире», в которой Де Сото рассматривает эволюцию нелегальных форм деятельности, показывая их значение в становлении рыночной экономики «снизу».
В книге рассматриваются проблемы урбанизации в Перу, в результате которой создаются предпосылки для развития современной промышленности. Однако урбанизация, которую на Западе стимулировала промышленная революция, существенно отличалась от урбанизации в развивающихся странах. В ходе урбанизации на Западе шёл параллельный рост городов и мануфактур, отсутствовал разрыв между ростом городского населения и ростом занятости в промышленности. В развивающихся странах темпы роста городского населения значительно опережают темпы роста занятых. Это приводит к росту как явной безработицы – среди недавно урбанизированного населения, так и скрытой – в городском неформальном секторе. Именно в этом причины и высокой устойчивой безработицы, и роста теневого сектора экономики. Де Сото рассматривает три сферы нелегальной деятельности в Лиме: жилищное строительство, торговлю и транспорт. В отличие от западных экономистов, де Сото не порицает нелегальную деятельность, поскольку последняя, во-первых, носила вынужденный характер, во-вторых, способствовала решению важнейших городских проблем, перед которой официальная экономика оказалась бессильной.
Что же толкает людей на организацию обширной нелегальной деятельности? Прежде всего высокие трансакционные издержки первичной легализации и поддержания легального бизнеса, а также бюрократическая заорганизованность, препятствующая свободному развитию рыночных отношений. Но без легальных прав собственности предпринимателям постоянно угрожает лишение возможности продолжения бизнеса. В этих условиях невозможно делать длительные капитальные вложения, даже в том случае если есть соответствующие финансовые ресурсы. Во второй книге «Загадка капитала» (2000 г.) де Сото образно называет их «мёртвым капиталом бедняков», подчеркивая, что «большинство граждан так и не получили возможности, опираясь на закон, обратить свои накопления в капитал»[11]. Отсутствие легально зафиксированных прав собственности приводит к неэффективному хранению и использованию нелегалами своих ресурсов. К тому же они не могут свободно отчуждать свою собственность или использовать её в качестве залога. Отсюда широкое развитие нелегальной экономики. Причины неразвитости рынка капитала скрываются за этой, на первый взгляд, пустой формальностью.
Помимо новой, позитивной оценки нелегальной деятельности в процессе развития рыночной экономики, де Сото объясняет причины столь масштабной нелегальной деятельности высокими трансакционными издержками, которые он классифицирует на основе критерия «легальность – нелегальность» (таблица 6.1).
Первая их группа – «цена подчинения закону», т. е. издержки законопослушного поведения. Предприниматель в легальном бизнесе должен нести единовременные «издержки доступа», связанные с получением права заниматься определённым видом экономической деятельности. Получив официальную санкцию на свой бизнес, он должен постоянно нести издержки «продолжения деятельности в рамках закона»: выплачивать налоги и социальные отчисления, подчиняться бюрократической регламентации производственных стандартов; соблюдать обязательные нормы при руководстве персоналом, нести потери из-за неэффективности судопроизводства при разрешении конфликтов или взыскании долгов.
Делая выбор в пользу нелегальной организации, предприниматель вынужден оплачивать «цену внелегальности» в которую входят «цена уклонения от легальных санкций» (риск поимки и наказания частично снижается взятками как особой формой страхования), издержки, связанные с трансфертом доходов, повышенные ставки на теневом рынке капиталов, невозможность участвовать в
Таблица 6.1 – Сравнительный анализ издержек в легальном и нелегальном секторах экономики
| Цена подчинения закону | Цена внелегальности |
| Издержки пер-вичной легализации | Издержки, связанные с уклонением от наказаний (легальных санкций) |
| Издержки легального бизнеса | Издержки, связанные с трансфертом чистых доходов |
| Издержки, связанные с уклонением от налогов и нарушением законов о труде | |
| Издержки, связанные с отсутствием легально зафиксированных прав собственности | |
| Издержки, связанные с невозможностью использования контрактной системы | |
| Издержки, связанные с исключительно двухсторонним характером нелегальной сделки | |
| Издержки доступа к нелегальным процедурам разрешения конфликтов |
1.Источник: Де Сото Э. Иной путь… С. 176—215; Олейник А.Н. Институциональная экономика : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2000. С. 160
наукоёмких и капиталоёмких областях производства, относительно слабая защищённость прав собственности, «цена невозможности использовать контрактную систему» (опасность нарушения деловых обязательств) и недостаточная эффективность внеконтрактного права.
Таким образом, основной причиной теневой экономической активности следует считать нерациональный правовой режим. Возникает своего рода порочный круг: рост теневого сектора приводит к сокращению легального, что при сохранении уровня общественных расходов приводит к необходимости увеличения налогов на легальный бизнес, а это – к растущей привлекательности теневого сектора и т. д. (рисунок 6.1).
Чтобы радикально изменить ситуацию, необходимо решить институциональные проблемы, сдерживающие нормальное развитие как в текущем периоде, так и перспективе.
Для настоящего временинаиболее актуальным является ликвидация препятствий, мешающих интеграции легального и теневого секторов, создание единой правовой и экономической системы, исключающей дискриминацию. Это предполагает три меры:
• упрощение, т. е. оптимизация функционирования правовых институтов путём устранения дублирующих и ненужных законов;
• децентрализация, т. е. передача законодательной и административной ответственности от центрального к региональным правительствам, с тем чтобы приблизить власти к реальной жизни и насущным проблемам;
• дерегулирование, т. е. рост ответственности и возможностей для частных лиц и сужение их для государства.





Рисунок 6.1 – Порочный круг нелегальности
Для будущего необходимо изменить сами процедуры принятия новых законов, с тем чтобы не повторять ошибки прошлого. Это предполагает:
• публикацию законопроектовдля их свободного обсуждения;
• анализ законопроектов в терминах издержеквыгоды,с тем чтобы оказать дисциплинирующее воздействие на правительство и отвергнуть несовершенные законопроекты ещё до их публикации.
Разработка и принятие хороших законов важны, но не менее важным является и обеспечение их соблюдения в реальной жизни, т.е. механизм принуждения (еnforcement). Только таким образом, по мнению институционалистов, государство может и должно создать благоприятные институциональные условия для постепенного рыночного развития.
Выводы. Институциональный подход позволяет объяснить, почему рекомендации представителей неокейнсианского и неоклассического направлений не дают желаемых результатов в развивающихся странах. По мнению Г. Мюрдаля, главная причина слаборазвитости заключается не в недостатке иностранного капитала и низкой норме накопления, а в недоиспользовании трудовых ресурсов. Поэтому главной проблемой является обеспечение населения продовольствием для того, чтобы стимулировать более интенсивный, более производительный труд. Это предполагает более равномерное распределение доходов в этих странах. Исследование Мюрдаля стимулировало выработку стратегии удовлетворения основных потребностей, рекомендуемую экспертами ООН освободившимся странам в 1970-е гг.
Т. Шульц, развивая подход Г. Мюрдаля, обосновывает первоочередность институциональных изменений, которые возможны лишь при соответствующих инвестициях в человеческий капитал: в образование и самообразование, в сферу здравоохранения и науки. Именно вложения в человеческий капитал, рост ценности человеческого труда становятся важнейшими факторами преобразования экономики, модернизации экономических и юридических институтов.
Э. де Сото объясняет существование развитого теневого сектора в экономике развивающихся стран сложившимися институтами: отсутствием или нечёткой спецификацией прав собственности из-за высоких трансакционных издержек первичной легализации и поддержания легального бизнеса. Для радикального изменения ситуации и постепенного рыночного развития этих стран только государство может и должно создать благоприятные институциональные условия: создать качественную нормативную базу и обеспечить её соблюдение в реальной жизни.
Контрольные вопросы
1. В чём, по вашему мнению, заключаются причины появления институциональных теорий развития?
2. Какие основные препятствия развитию рассматривает Г. Мюрдаль и какие предлагает меры по их устранению?
3. Как связаны между собой концепция «базовых нужд» и теории эндогенного экономического роста?
4. Как образование может способствовать экономическому росту и развитию страны? Каковы основные препятствия роста уровня образования в развивающихся странах?
5. Каковы причины существования масштабного нелегального сектора в экономике развивающихся стран по мнению Э. де Сото?
6. Какие меры следует предпринять для изменения существующего положения?
§
Многочисленные неудачи и растущее разочарование в рекомендациях экономической теории привели к широкому распространению (особенно среди интеллектуалов из развивающихся стран) другого подхода, который обратился к поиску внешнеэкономических причин неудач – парадигмы внешней зависимости.В центре исследования ряда учёных, многих из которых можно причислить к стану леворадикальных экономистов, оказывается проблема антагонизма отношений между развитыми и развивающимися странами.Вцентре внимания оказались не теории роста, а теорииущербного, периферийного, зависимого развития. Более того, сам экономический рост, рассматривается ими как фактор слаборазвитости, однако прежде всего не в национальном, а в международном масштабе.
7.1. Теория периферийного капитализма.Аргентинский экономист Рауль Пребиш(1901 – 1986)сыгралбольшую роль в преодолении иллюзий гармоничного мирового хозяйства. Мировую известность Р. Пребиш приобрёл на посту исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (1950 – 1963 гг.) и в период пребывания на посту генерального секретаря ЮНКТАД (1964 – 1969 гг.).
В поисках ответов на вопросы об отсталости и бедности Р. Пребиш разработал собственную стратегию развития и её теоретическое обоснование – концепцию «периферийной экономики». В своих работах «Трансформация развития» (1970), «Критика периферийного капитализма» (1976), «Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива» (1981) критически проанализировал накопленный опыт трактовки проблем развития и борьбы с бедностью и отсталостью. Сопоставляя капитализм центров с капитализмом периферии, он доказывает, что периферийный капитализм отличается от капитализма развитых стран не степенью развития, а моделью способа производства и распределения благ. Если капитализм центров возникал и развивался как длительный органический процесс роста на базе осуществления технологических, экономических, организационных инноваций, то в странах запоздавшего развития капитализм развивается как имитационная модель в ходе инъекций иностранного капитала, технологий и идеологии. В результате имитация рынка автоматически исключает из него и обрекает на нищету значительные слои населения. Центр системы (богатые страны) вольно или невольно эксплуатирует периферию(третий мир), пренебрегает её интересами. Внутри развивающихся стран имеются немногочисленные, но имущие и влиятельные слои (землевладельцы, предприниматели, военное руководство, чиновники, лидеры профсоюзов), которые заинтересованы в сохранении выгодной им неравноправной капиталистической системы. Прямо или косвенно они служат (и получают за это вознаграждение) интересам сил на международной арене, включающих транснациональные корпорации и учреждения иностранной помощи (типа Всемирного банка и МВФ), которые связаны с богатыми странами финансовыми и другими узами. Идеология и деятельность местных элит в этих странах часто тормозит реформы, способные улучшить условия жизни широких слоев населения, иногда даже ведёт к ухудшению этих условий и увековечиваниюслаборазвитости.
…
Формирование привилегированного общества потребления ведёт к ещё большему сокращению накопления, что предопределяет низкие темпы развития и, главное, лишает общество собственной базы инноваций. В этих условиях развивающимся странам никак нельзя обойтись без прямого государственного вмешательства в рыночные процессы. При этом подчёркивалось, что вмешательство не должно ограничиваться регулированием экономики по образцам, которые существуют в промышленно развитых странах. Для преодоления отсталости крайне важно наличие долгосрочного экономического планирования, с помощью которого предполагалось проведение сознательно направляемых преобразований.
Р. Пребиш рассматривает внешнюю торговлю как особый механизм выкачивания доходов из периферии в центр. Ухудшение условий торговли он связывает с особенностями международного разделения труда, дискриминационной торговой политикой развитых стран и изменениями, происходящими в ходе НТП. Экономическая отсталость предстает здесь как навязанное извнеявление в отличие от моделей стадий роста и структурных сдвигов, где главными были внутренние ограничения развития типа дефицита накоплений или квалифицированных кадров. Внешняя зависимость развивающихся стран – серьёзное препятствие для их автономного развития.
Теотонио Дос Сантос доказывал, что слаборазвитость не является докапиталистическим этапом в развитии общества, это скорее особая форма капиталистического развития, которую можно назвать зависимым капитализмом. Зависимостью является состояние, когда экономическое положение одной группы стран предопределено развитием другой группы стран. Отношения взаимозависимости между двумя или несколькими странами становятся отношениями зависимости, когда одни из них могут развиваться самостоятельно, а другие – только в результате воздействия извне. Эта зависимость может иметь как позитивное, так и негативное влияние на ход развития страны. Но типичная ситуация – это когда вторая группа стран страдает от отсталости и от эксплуатации. Господствующие страны, обладая превосходством в технологиях, в сферах внешней торговли, инвестиций и в социально-политической организации, имеют возможность оказывать давление на зависящие от них страны (конкретные формы подавления зависят от исторической эпохи). В рамках таких отношений господствующие страны эксплуатируют зависимые и присваивают часть прибавочного продукта последних. Зависимость в итоге проистекает из самого международного разделения труда, которое стимулирует промышленное развитие в одних странах и ограничивает в других, рост которых предопределён тенденциями в ведущих центрах мирового хозяйства.
Для преодоления этого препятствия на первое место выдвигалась необходимость индустриализации на основе замещения импорта потребительских и инвестиционных товаров. Экспортоориентированная модель развития должна быть заменена импортозамещающей моделью. Основные положения экономической программы преобразований должны включать для каждой отдельно взятой страны такие компоненты, как определение потребности в капитале на каждом из этапов преобразований, разграничение источников инвестиций на частные и государственные, национальные и иностранные, прогноз возможных последствий воздействия инвестиций на экономику, социальную сферу и на перспективы международного сотрудничества. При этом основное внимание должно было быть уделено узловым проблемам, таким как преодоление несбалансированности в сфере инфраструктуры, затрудняющей многие преобразования в экономической и социальной сфере, восполнение недостающих производственных мощностей за счёт импорта инвестиционных товаров, нивелирование негативного внешнего воздействия и развитие устойчивости национальной экономики.
Во второй половине 1960-х– первой половине 1970-х гг. импортозамещение становится основной стратегией развития для многих развивающихся стран (Боливия, Мексика, Филиппины, Индия, Турция, Уругвай и др.)[12]. Во второй половине 1970-х гг. политика импортозамещения, зашла в тупик поскольку привела не к процветанию, а просто к эволюции форм зависимости: центр тяжести был перенесён на поступление из-за рубежа финансовых ресурсов, оборудования, «ноу-хау». Иллюзии автономного развития были отброшены, концепция импортозамещения уступила место либеральным рецептам развития, в основе которых лежала монетаристская теория.
Стратегия импортозамещающей индустриализации обострила такие процессы, как ухудшение условий торговли, растущий финансовый долг, «утечку умов», что явилось причиной дальнейшей радикализации экономической мысли.
7.2. Теории неэквивалентного обмена.Основой дискуссии о неэквивалентном обмене стала вышедшая в 1969 г. монография французского экономиста Aртура Эммануэля«Неэквивалентный обмен: очерк об антагонизмах в международных экономических отношениях», в которой автор стремится доказать, что основой благосостояния западной цивилизации является в значительной степени присвоение результатов труда народов капиталистической периферии, анализирует механизм изъятия и присвоения продукта, созданного в третьем мире. Он исходит из марксистской теории стоимости и цены производства и трактует их весьма своеобразно.
Рывок вперёд одной из стран оплачивается другими, отставшими странами. По мнению А. Эммануэля, благополучие сильных стран покоится на бeдности слабых. Возникает порочный круг: чем богаче становится развитая страна, тем беднее слаборазвитая. Поэтому диспропорция центра и периферии не причина, а следствие неравного обмен. Вывоз капитала лишь дополняет и усиливает сложившийся антагонизм.
Возможность перераспределения прибавочной стоимости, созданной в третьем мире, в пользу империалистических держав Эммануэль связывает с различиями рынка труда и рынка капитала. Последний более развит, что выражается в свободном международном движении капиталов и выравнивании общей нормы прибыли. Движению же труда препятствуют различные институциональные барьеры (и прежде всего, профсоюзы различных стран), что мешает выравниванию ставок заработной платы. Более низкая заработная плата рабочих развивающихся стран становится, по А. Эммануэлю, источником неэквивалентного обмена и обогащения стран Запада. Развитость центра и слаборазвитость периферии выступают как две стороны одной медали.
В концепции А. Эммануэля абсолютизируется сфера обмена в ущерб всем другим сферам жизнедеятельности: он недооценивает глубокие различия в уровне развития производительных сил, в подготовке рабочей силы. Его утверждения о том, что весь рабочий класс развитых стран эксплуатирует население третьего мира, оттолкнуло от него даже его ближайших сторонников – марксистов, приверженцев идеи единства международного рабочего движения.
В результате А. Эммануэль приходит к выводу, что выбор возможен только между неэквивалентным обменом и автаркией, следовательно, развитие периферии возможно лишь путём преодоления неэквивалентного обмена.
В 1970-х гг. сенегальский учёный арабского происхождения Самир Амин (р.1931) выступал как один из авторов известной теории «периферийного капитализма»– концепции, защищавшей интересы периферийных стран и направленной против «неоколониализма» развитого Центра.
С. Амин рассматривает процессы глобализации и её последствия для периферийных стран в исторической перспективе. Последствия происходящего процесса глобализации двояки. Во-первых, растёт тенденция господства мировой экономики и мирового рынка над политикой и идеологией национальных государств. Во-вторых, усиливается поляризация уровней развития, поскольку рынки товаров и капиталов всё более приобретают мировое измерение, а рынки рабочей силы остаются национально сегментированными. Центр, полагает Амин, и дальше будет стремиться к доминированию за счёт поддержания пяти монополий: 1) монополии новейших технологий; 2) монополии на контроль за финансовыми потоками на глобальном уровне; 3) монополии на доступ к природным ресурсам планеты; 4) монополии на информацию и масс медиа; 5) монополии на оружие массового уничтожения.
Таким образом, складывается мировая иерархия, в которой ниже и дальше от центра (США, Великобритания, Германия, Япония и др.) оказываются разные уровни Периферии – Восточная и Юго-Восточная Азия, Восточная Европа, Россия, Индия, Латинская Америка. Ещё ниже и дальше – Африка и арабо-мусульманский мир, которые становятся всё более маргинализованными и предоставленными самим себе. В целом, по схеме С. Амина, современная глобализация не несёт ничего хорошего большинству человечества, а прежде всего – Периферии. Противопоставить ей можно лишь сопротивление трудящихся, направленное на достижение более равноправных отношений труда и капитала, усиление значения национального и регионального уровней в противовес мировому, который стал полем господства капитализма центра.
7.3. Теория мировой системы И. Валлерстайна.Параллельно с теорией зависимости, но отдельно от неё, выступает концепция мировой системы, выдвинутая Иммануэлем Валерстайном (р. 1930), который создал и возглавил в Бингемтонском университете (штат Нью-Йорк) Центр по изучению экономики, исторических систем и цивилизаций. Учёный разработал теорию мировых систем,изложенную в таких трудах, как «Современная мир-система» (в трёх томах, вышедших в 1974 – 1984 гг.), «Закат американского могущества» (2003 г.) и др.
Теория мировых систем И. Валлерстайна, основана на трёхзвенной иерархической структуре: ядро – полупериферия – периферия.Под «Центром» («Ядром») понимается место зарождения нововведений технологического и социально-экономического порядка. А остальное пространство мира – «Полупериферии» и «Периферии» – служит средой распространения нововведений.
Периферийность и «запоздалое развитие» (delayed development) связаны между собой. Феномен периферийности существовал не всегда.
Конечно, одни страны или регионы могли обгонять друг друга по каким-то хозяйственным показателям, уровню вооружения, культурной развитости. Но вплоть до середины ХVII в. эта разница была не слишком велика, к тому же положение могло меняться. Затем положение радикально изменяется. В Англии происходит каскад революций: аграрная, промышленная, коммерческая, транспортная, и страна становится как бы в особое положение к остальному миру. Английские товары обрушились на рынки ближних и дальних стран, выкачивая оттуда сырьё и полуфабрикаты. Спираль неравномерности развития, основываясь на разделении труда между государствами, раскручивалась при переходе от аграрной экономики к индустриальной.
В Ядре развиваются передовые технологии, усиливается активность в самых авангардных (пропульсивных) отраслях экономики, аккумулируются огромные капиталы, на основе которых осуществляется последующая индустриализация. Центр постепенно освобождается от экономически неэффективных видов хозяйственной деятельности, которые закрепляются на Периферии в качестве отраслей специализации, в частности добычи сырья и аграрного сектора. Обычно в эти страны перемещаются производственные процессы, которые обслуживаются дешёвой, малоквалифицированной силой.
Развитие в одном пространстве означает слаборазвитость в другом. центр противостоит Периферии не просто с точки зрения более высокой производительности труда или превосходящего дохода на душу населения. Центр выступает как несравненно более организованный и сбалансированный хозяйственный организм, обладающий гораздо большим потенциалом экспорта и импорта, более передовыми технологиями, инфраструктурой, транспортными средствами, коммерческой культурой, социальным и политическим механизмом. Комбинация этих двух процессов: локализованного прорыва в развитии и растущей взаимозависимости породила специфическую проблему запоздалого развития, в тенденции все более становившуюся мировой.
Между полюсами мирового хозяйства (Центром и Периферией) находится полупериферия – промежуточное звено в мировом хозяйстве, которое ослабляет разницу потенциалов полюсов. К ней были отнесены отдельные развитые и социалистические страны – Ирландия, Португалия, Балканские страны, бывший СССР. Она играет роль Периферии для Центра и роль Центра для Периферии, занимая это промежуточное положение в системе международного разделения труда. Для стран полупериферии возможно только зависимое развитие внутри орбиты мировой системы, на основе международного разделения труда, которое создаёт возможности для международной фрагментации производственного процесса.
Валлерстайн признавал, что ни Центр, ни Периферия не являются статичными категориями, следовательно, возможен переход из одного состояния в другое, от периферийности к полупериферийности, преодоления порога слаборазвитости. Но эта возможность труднореализуема, поскольку периферийное или задержавшееся в своём развитии общество уже не может повторить путь развития центра. Это объясняется не только спецификой каждой национальной общности, но и тем, что она вынуждена начинать в менее благоприятных условиях. Проникновение Центра в хозяйственные структуры Периферии не может не производить угнетающий эффект, препятствуя развитию тех или иных отраслей национального производства. Периферия вынуждена приспосабливаться к той ситуации, которую «задаёт» ей Центр: соглашаться хотя бы на время на роль сырьевого придатка, уступать часть внутреннего рынка более высококачественным иностранным товарам, ликвидировать за ненадобностью какие-то отрасли или, напротив, ограждать их внешней конкуренции высокими протекционистскими барьерами, пытаясь их перестроить.
Возможности избежать периферизации или преодолеть её зависели от разных факторов: стартового уровня общества запоздалого развития, его размеров и населения, определяющих потенциал внутреннего рынка, исторического периода, с которого начинается рывок. При изменении положения в мировой экономике особую роль играет «сила» государства, без которого переход страны к новому мировому статусу невозможен. Концепция Валлерстайна содержит положение о государственной зависимости, согласно которому разрыв между центром и периферией определяет основное противоречие мировой системы.
Процессы поляризации, усиливающиеся в сложившейся системе мировой экономики, порождают антисистемные движения, выступающие в двух основных формах: национальных движениях и социалистических рабочих движениях, которые должны способствовать ликвидации этой системы.
Очевидна преемственность концепции И. Валлерстайна и идей школ зависимости и периферийности при их общей принадлежности к одному блоку леворадикальных теорий отсталости
Итак, по мнению леворадикальных экономистов, единственным средством освобождения развивающихся стран от прямого и косвенного контроля развитых и местных угнетателей является революционная борьба или, как минимум, коренная перестройка мировой капиталистической системы.
Выводы.Теории внешней зависимостиобъясняют слаборазвитость развивающихся стран внешнеэкономическими причинами: неравноправным их участием в мировой торговле в силу подчинённого, зависимого положения в системе международного разделения труда, дискриминационной торговой политикой развитых стран.
Р. Пребиш рассматривает внешнюю торговлю как особый механизм выкачи-вания доходов из периферии в центр. Экономическая отсталость – не внутреннее, а навязанное извнеявление, и преодолеть её в рамках сложившихся между странами отношений невозможно. Пребиш обосновывал необходимость индустриализации развивающихся стран на основе замещения импорта потребительских и инвестиционных товаров – стратегию импортозамещения, которая стала основной стратегией развития многих стран в 1960 –70-е гг.
Теории неэквивалентного обмена, периферийного капитализма, мир-системы, предложенные представителями леворадикального направления, развивали этот подход, доказывая, что необходимо достижение более равноправных экономических отношений, усиление значения национального и регионального уровней в противовес мировому, который стал полем господства капитализма Центра. По мнению леворадикальных экономистов, средством освобождения развивающихся стран от прямого и косвенного контроля угнетателей является революционная борьба или, по меньшей мере, коренная перестройка мировой капиталистической системы.
Контрольные вопросы
1. Почему, по вашему мнению, появились альтернативные теории модернизации развивающихся стран?
2. Какие существуют теории экономического развития, разработанные представителями самих развивающихся стран?
3. Каким образом и когда произошло расслоение стран на страны «опережающего развития» и страны «догоняющего» развития?
4. Как сказывается это расслоение на возможностях развития стран «догоняющего» развития?
5. Какие теории относят к группе леворадикальных? Как, по мнению сторонников этих теорий, развивающиеся страны могут решить проблемы своего развития?
§
8.1. Закрытый и открытый тип развития.В литературе выделяют следующие типы развития: закрытый (самодостаточный) и открытый типы экономического развития.
Закрытый тип предполагает отказ от вовлечённости в международные хозяйственные отношения
В рамках закрытого от внешнего мира типа развития целесообразно выделить два близких, но всё-таки полностью не совпадающих по содержанию подвида: автаркическое и самодостаточное. Отличия между ними в возможностях реализации политики изоляционизма и главным образом в ожидаемых результатах. Если автаркический вид развития решает задачу максимального ограничения хозяйственных контактов с внешним миром, реализуя защитную функцию, то самодостаточный, опираясь на значительно больший его внутренний потенциал, претендует на выработку альтернативного пути развития.
Политика изоляционизма имела многократные прецеденты в мировой истории. В новейшее время известен опыт Албании, которая несколько десятилетий жила, отгородившись от внешнего мира, а также печальный опыт Кампучии. В этом случае можно говорить об изоляции без развития.
Если в доиндустриальную эпоху развития это было возможным и не имело фатальных последствий для «отгородившееся» экономики, то в индустриальную, а тем более постиндустриальную эпоху реализовать его практически невозможно из-за множества причин, ведущих к большим потерям от такого рода попыток. Во-первых, практически невозможно во всей полноте и на длительный срок какой-либо стране, особенно богатой ресурсами, обеспечить самоизоляцию своей экономики от внешнего мира. Глобализация экономики означает рост возможностей всемирного характера влиять на национальные экономики и втягивать последние в глобальные процессы и проблемы (например, экологические). Во-вторых, при таком курсе неизбежно экономическое, техническое и культурные отставание.
…
Попытки закрытого развития предпринимаются не самыми передовыми странами, и этот путь лишает их возможности опираться на международное разделение труда, конкуренцию, сотрудничество, интеграцию. Как показала история, в индустриальную и постиндустриальную эпохи значительно более высокий динамизм экономическому развитию придаёт мировой, а не внутренний рынок.
Разумеется рост вовлечённости в мирохозяйственные связи имеет и другую сторону: подчинение национальных экономик с самобытным устройством потребностям всемирного хозяйства и его ведущих держав. И чем сильнее потребительский характер участия страны в мировой торговле преобладает над потребностями производства, тем хуже условия для экономического развития и слабее позиции в международном разделении труда.
При открытом типе экономического взаимодействия возникают разные его подвиды: догоняющий, характерный для стран с поздним (запаздывающим) развитием; опережающий, свойственный странам лидерам; промежуточный – в той или иной комбинации совмещающий основные видовые характеристики открытого типа развития. Последний демонстрирует страны, преодолевшие основной разрыв и стремящиеся к занятию выгодных позиций в международном разделение труда.
8.2. Догоняющее развитие. Выделенный тип характеризует существенные отличия между странами-лидерами и странами запаздывающего (позднего) развития. Вырвавшиеся вперед страны стали пожинать преимущества лидеров, присваивая монопольную ренту, которую оплачивают остальные участники мирового рынка. Сложившаяся ситуация ставит различные группы стран в неравные торговые условия. Естественно, менее удачливые участники мирового рынка стремятся переместиться на более выгодные позиции. Но для этого необходим прорыв конкурентоспособности товаров, который, в свою очередь, предполагает прорыв в технологиях.
Догоняющий сценарий развития, одним из современных вариантов которого выступает догоняющая модернизация, отражает объективную потребность сократить разрыв с ушедшими вперёд странами. С этой стороны он обусловлен тем реальным положением, в котором оказались страны более позднего развития, и теми первоочередными экономическими задачами, которые они должны решать.
Режим догоняющего развития опирается на заимствование готовых и отработанных технологий, форм хозяйствования, экономических институтов, когда предпочтение отдаётся всеобщему и универсальному в хозяйственном развитии. К этому сводится суть догоняющего сценария и тех рекомендаций, которые вырабатываются для обоснования экономического курса стран, его выбравших. Основная надежда при реализации такого сценария связана с тем, что накопленный международный опыт хозяйствования, возможность получения содействия и помощи со стороны наиболее богатых стран, привлечение иностранных инвестиций – всё это является достаточным для проведения крупных системных изменений в народном хозяйстве, для адаптации к мировому рынку и в конечном итоге приведёт к ускорению развития экономики. В свою очередь, благодаря такому форсированию можно сократить время нахождения на предшествующих (ранних) фазах развития и преодолеть отставание.
Такие проблемы уже решались отдельными странами. Пионерами или чемпионами этого направления стали послевоенная Япония, а теперь Китай.Неудачным вариантом решения такого рода проблем был курс развития СССР, который проводил индустриализацию, подавляя рынок. Поэтому развитие с самого начала приобрело несбалансированный характер. Однако оно доказало свои возможности решать в короткий срок серьёзные задачи. В долгосрочном же периоде надежды технологического прорыва на планово-централизованной основе оказались несостоявшимися. Им помешали низкая эффективность производства и нарастающая диспропорциональность хозяйства.
Другие страны рыночной экономики не стремились решать проблемы ускоренного развития, подавляя рыночные силы. Они пытались направить рынок на решение долгосрочных стратегий структурной и промышленной модернизации реального сектора экономики. Подобные задачи решались на основе трёх стратегических направлений: получение необходимых технологий, повышение уровня квалификации кадров и национальной науки, использование мобилизационного потенциала государства.
Первая ключевая проблема, которую решают страны, поставившие себе цели ускоренной модернизации, – это получение недостающих технологий.
Модель догоняющего развития призвана разрешить противоречие между потребностью в новых технологиях и отсутствием ресурсов для её реализации. Заполучить необходимые технологии можно за счёт трёх источников:
• покупки лицензий;
• покупки оборудования;
• привлечения прямых зарубежных инвестиций.
Япония ориентировалась на лицензии. Это было дешевле, чем покупка оборудования, так как по одной лицензии можно наладить поток производства и удовлетворить не единичную, а массовую потребность.
Такой вариант развития имитирует производство, которое уже имеется в других странах (диффузия инноваций, о которой писал Й. Шумпетер, но в масштабах мировой экономики, а не национальной). Лидерство на мировом рынке монополистической конкуренции обеспечивается не тиражированием известного производства, а опережением конкурентов в предложении новой продукции или нового качества. Для того чтобы опередить конкурентов, следует хотя бы к ним приблизиться. Подтягивание технологического уклада создавало базу для дальнейших шагов догоняющего развития.
Китай избрал для себя другой способ заполучить недостающие технологии через прямые иностранные инвестиции (ПИИ). ПИИ привели в страну не только недостающие финансовые ресурсы, но и технологии, и «ноу-хау», в том числе и рыночный менеджмент. Такой путь оказался очень эффективным, так как он резко расширил внутренний рынок, внутренний спрос, перевёл страну на новую ступень промышленной трансформации. Сегодня ПИИ в Китае набирают новую силу. Страна, добившаяся успехов на этом пути, стала активно притягивать иностранный капитал.
Вторая ключевая проблема догоняющего типа развития предполагает необходимость вложения в человеческий капитал и национальную науку. Такого рода затраты необходимы для освоения нового технологического уклада. Без них приобретенная техника превращается в груду мёртвого металла. Приобретенная технология подвержена моральному старению. Человеческий же капитал становится мощным зарядом дальнейшего развития. Знания инициируют дальнейшее экономическое развитие. Понимание этого заставляет все страны, желающие продвинуться вперёд, инвестировать в человеческий капитал. Когда-то это сделал и СССР, что стало его лучшим вкладом в позитивный ход истории страны.
Третья ключевая проблема догоняющей модели развития состоит в мобилизации ограниченных ресурсов страны на решение узкого круга задач, технологического прорыва страны. Её решение предполагает активную роль государства, выполняющего эти мобилизационные функции.
Сегодня очень много говорится о пределах догоняющей модели развития. В качестве примера приводят Японию и ряд Юго-Восточных государств. Юго-Восточные страны, сделавшие рывок в индустриальном развитии, заняли своё место в мировом экспорте. Они производят конкурентные продукты массового производства, используя преимущества своего рынка в виде дешевой рабочей силы. Когда-то и Япония опиралась на такие же стратегии. Но затем её стандарты жизни возросли, рабочая сила подорожала – и ей пришлось искать уже другие преимущества в завоевании мирового рынка. Она стала проводить иные стратегии, ориентируясь на то, чтобы стать впереди планеты всей по техническому прогрессу. Это значит, что она переросла догоняющую модель и вступила на путь опережения конкурентов по законам монополистической конкуренции. Её путь теперь направлен на инновационную модель развития.
Догоняющая модель действительно имеет пределы. Но следование ей даёт возможность для перехода на разработки и освоение собственных технологий.
Экономика России давно и одной из первых опробовала режим догоняющего развития. С одной стороны, он способствовал преодолению хозяйственной замкнутости и изолированности, сделав ставку на развитие международных экономических отношений. Но, с другой стороны, в подавляющем большинстве стран стратегия догоняющего развития не смогла решить главную экономическую проблему – устранить отставание от стран- лидеров.
Всё вышесказанное подтверждает, что успешным или неуспешным может быть любой из вариантов развития.
Очевидно, что догоняющее развитие требует благоприятных экономических, социальных и политических условий не только внутри страны, но и состояния общемировой экономической конъюнктуры (что доказывает опыт нефтедобывающих стран).
8.3. Опережающее развитие.Этот тип развития характерен для стран, способных преодолеть отставание и добиться коренного улучшения своих позиций в международном разделение труда. Чисто экономически такой переход в классическом варианте связан с закреплением специализации догоняющей страны на выпуске продукции (или услуг) с высокой степенью обработки, технологически передовой и сложной. При его завершении, как показывают многочисленные примеры, создаются реальные и самые прочные основы для получения наилучших результатов от участия в международном разделение труда, как оно сложилось под влиянием капиталистически организованного производства с соответствующей системой цен.
Ещё более интересным и на практике значительно более сложным является то, каким образом странам удаётся осуществить переспециализацию. Теоретически можно обозначить три возможных варианта, которые возникают при реализации такого курса.
Первый вариант связан с использованием режима форсированного развития как первоначальной и исторически самой простой формы решения поставленной цели устранения экономического отставания. Как показала историческая практика, этот вариант оказался достаточно успешным для стран, находящихся примерно в той же естественноприродной зоне и с такими же в принципе институциональными характеристиками, как и страны лидирующего эшелона. К ним относятся страны с близким к западноевропейскому типу цивилизационным устройствам или страны переселенческого капитализма (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.). При таких исходных условиях проблема устранения разрыва решается за счёт снятия каких-либо внешнеэкономических барьеров и создания более благоприятной внутренней и внешней среды для ускорения. (Так, для Германии важнейшим событием, которое стимулировало образование единого национального рынка и проведения реформ, стало объединение страны). В этом случае догоняющий и форсированный типы развития практически совпадают, и они в равной степени располагают вполне реальными шансами для благополучного вхождения в наиболее привилегированную центральную часть мирового хозяйства.
Второй вариант перехода на орбиту опережающего развития относится к странам, обладающим какими-либо уникальными по своим масштабам особо благоприятными условиями для быстрого экономического подъёма. Вторая половина ХХ в. дала самый яркий образец его использования рядом нефтеэкспортирующих и капиталоизбыточных государств (Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, и др.). Шанс у этих стран покинуть периферийную зону в мировом хозяйстве появился тогда, когда, создав свою международную организацию в 1960 г. (ОПЕК), они смогли за счёт скоординированной политики в области производства, торговли, цен добиться резкого укрепления своих внешнеэкономических позиций в торговле нефтью с основными её импортёрами – развитыми капиталистическими странами. Огромные прибыли, которые образовались в результате «нефтешоков» (более чем двукратного повышения цен на нефть в каждом случае) – в 1973–1974, 1980–1981, 2003–2007 гг. – они смогли использовать в своих интересах.
Кроме того, нефтедобывающие страны, будучи в основном малонаселёнными и не располагая другими благоприятными возможностями развёртывания индустриального сектора, выработали свою специфическую стратегию развития, которая оказалась эффективной. Речь идёт о таком её нетрадиционном компоненте, как использование колоссальных доходов, избыточных с точки зрения прибыльного вложения внутри этих стран, в виде обратного экспорта капитала (государственного) в развитие страны. Благодаря ему эти страны получили дополнительную возможность проникнуть в наиболее привилегированную часть мирового хозяйства не через специализацию на производстве товаров с высокой степенью обработки, а через прямое вхождение в международную финансовую элиту, в значительной степени контролирующую мирохозяйственные связи.
Такие ситуации появляются нечасто и сохранить их за собой непросто. Только природные богатства, выгодное местоположение той или иной страны и другие уникальные условия могут превратиться в достаточный и надёжный ресурс рентного типа для собственного развития.
Третий вариант перехода на стратегию опережающего развития характерен для стран, которые, не располагая ресурсным потенциалом для экономического подъёма, тем не менее смогли успешно создать сектор производства, выпускающий конкурентоспособную готовую продукцию. К таким странам относится Япония, а также так называемые новые индустриальные страны (НИС) – Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. В настоящее время к данной категории уже близки другие страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Особенно впечатляет успех Тайваня, Тайланда, Южной Кореи, которые в 1950 г. входили в число наименее развитых стран, занимая по величине среднедушевого ВВП соответственно 130,133, 142 места из 152. Тайвань и Южная Корея продвинувшись более чем на 100 ступеней вверх, доросли до статуса промышленно развитых государств.
Экономический рывок, совершённый НИС, часто связывают с их экспортной стратегией производства. Её эффективность ранее продемонстрировала Швеция и другие скандинавские страны. Через переориентацию национального производства на мировой рынок, постепенное освоение новых технологий, совершенствование своих конкурентных преимуществ (относительную дешевизну рабочей силы на начальном этапе, ориентацию на качество продукции и др.) этим странам удалось проникнуть на мировые рынки готовой продукции и закрепиться на них.
Такая стратегия развития национальных экономик с нацеленностью на мировой рынок и освоение новых технологий сыграла важную роль. Сохраняет она своё значение на современном этапе. Однако было бы ошибочным сводить всё содержание «формулы опережения». Поэтому для обеспечения устойчивости собственного экономического развития со временем происходит соответствующее усилие внутриориентированного производства.
Так ослабление зависимости экономики Японии от конъюнктуры мирового рынка потребовало резкого увеличения потенциала внутреннего рынка за счёт роста потребительского спроса благодаря беспрецедентному повышению заработной платы.
Для экономического успеха Японии и НИС более значимым оказалось действие другого фактора. Они нашли варианты приспособления своего цивилизационного и формационного устройства к современным механизмам рыночной экономики, т.е. ускорение развития осуществлялось за счёт использования передовой западной технологии при сохранении своей культуры и традиций. Япония сделала ставку не на разрушение своих исторических корней и насильственное внедрение западных хозяйственных форм и либеральных ценностей, так же как и не на консервацию и стремление оставить в неизменности самобытные черты, а на приспособление к современным условиям рыночной экономики и обеспечение высокой конкурентоспособности.
Это означает, что указанные страны не пошли путём догоняющего развития, заимствуя чужие формы хозяйствования и разрушая свои.
Вместе с тем необходимо рассмотреть и препятствия для догоняющего развития, которые в литературе часто называют «ловушками развития» – «барьеры» (препятствия), которые не позволяют закрепить успехи, придать им необратимый характер и являются преодолимыми.
Самой известной является циклическая ловушка. Рыночная экономика развивается циклически. Во время спада закладываются предпосылки для нового витка бурного роста – внедрение инноваций и перестройка отраслевой структуры производства, что изменяет и международное и региональное разделение труда. Центры роста сдвигаются к новым отраслям, некогда передовые отрасли утрачивают своё ведущее значение, а вместе с ним и страны, в которых они концентрировались, оказываются на обочине развития. Очень редко странам догоняющего развития удавалось выиграть в результате сдвигов в технологическом цикле. В результате подобных сдвигов отставшие страны попадают в порочный круг догоняющего развития.
В заключение можно представить классификацию типов развития в виде схемы (рисунок 8.1)
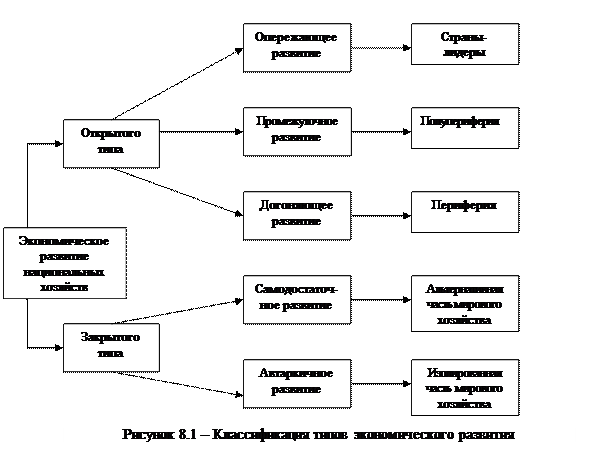
8.4. Эшелоны модернизации.Приоритеты и перспективы развивающихся стран связаны в конечном счёте с их ускоренной модернизацией. Модернизация рассматривается как переход от традиционного общества к современному на базе научно-технического прогресса. «Современное общество», или индустриальное общество, – это те страны, которые уже прошли различные этапы промышленного развития, осуществили на том или ином уровне индустриализацию. На основании всего вышеизложенного очень полезной для понимания закономерностей развития различных стран и регионов мира является теория «эшелонов развития» А. Гершенкрона.
В силу как естественноисторических различий между Западной Европой, с одной стороны, и обществами Азии, Африки, Америки и даже Восточной Европы, с другой стороны, разные страны втягивались в процесс модернизации в разных формах и на разных скоростях. Это привело к образованию трёх эшелонов модернизации.
Первый эшелон − те страны, где модернизация была органичной, вытекала из самого хода повседневной жизни общества: Англия, Франция, Голландия, Северная Германия, отчасти Северная Италия, Швейцария, впоследствии США и Канада.
В этих странах все стороны общества: повседневная жизнь, экономика, политика, духовная сфера и т.д. − развивались более ли менее равномерно, дополняя друг друга. Эти страны и образовали «ядро» мировой цивилизации, центры мировой системы капитализма.
Формировалось международное разделение труда, но оно было таким, что модернизация, развиваясь в одних странах, оборачивалась торможением модернизации, укреплением докапиталистических порядков в других. (В частности включение в европейский рынок на основе экспорта зерна надолго затормозило развитие индустрии в раздробленной Германии).
Даже если страна поначалу долгое время отставала в капиталистическом развитии от стран первого эшелона модернизации, но в социокультурном отношении принадлежала к западноевропейской цивилизации, со временем она занимала в этом эшелоне своё место.
В странах второго эшелона модернизации внутренние (в том числе социокультурные) предпосылки капитализма не могли или не успели сложиться. Однако на них влияло развитие стран Запада, которое стимулировало процессы модернизации, активизировало внутренние предпосылки капиталистического развития, если они существовали хотя бы в зачаточном состоянии. Слабость или отсутствие внутренних предпосылок делали модернизации в странах второго эшелона неорганичными (экзогенными). Это были главным образом вынужденные модернизации. Однако страны второго эшелона всегда были политически независимыми. Основным субъектом модернизации, инициатором и организатором преобразований в них было государство. Этот эшелон включал страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Японию, Турцию, Россию. Правящую элиту или сменявшие её группы в этих странах побуждали к модернизации самые разные причины: обострение конкуренции на мировых рынках, угроза независимости, и даже поражение в войне.
Для стран второго эшелона модернизации было характерно очень быстрое, форсированное прохождение того пути социально-экономического развития, который страны первого эшелона преодолевали за десятилетия и даже столетия. Благодаря чужому опыту, заимствованию многих форм производства и социальной организации у более развитых стран. Правда, иногда оно было чисто внешним, без соответствующих перемен в культуре и социальных институтах, и тогда эффект от него резко снижался или вовсе приводил к печальным результатам (насаждение Петром I мануфактур). Большинство стран второго эшелона модернизации выходило на ту же дорогу развития, по которой следовали страны первого эшелона − дорогу индустриального роста, развития науки и техники, массового образования, политической демократии и верховенства закона, хотя бы на словах, самоценности человеческой личности. Одной из стран второго эшелона − Японии удалось позже войти в группу стран первого эшелона (вторая половина ХХ в.).
Третий эшелон модернизации включает подавляющее большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки. Модернизация этих стран начиналась путём колонизации и втягивания в систему мировой торговли: им отводилась роль поставщиков колониальных товаров. Их модернизация была подчинена задаче обеспечения поставки этих товаров на рынки развитых стран. Ради этого создавалась необходимая инфраструктура: порты, дороги, склады, жилье.
Такая модернизация обычно была весьма поверхностной и мало затрагивала уклад жизни основной массы населения. Но её результатом явилось возникновение «островков» современности, в результате чего формировалось дуалистическое общество. В ходе модернизации стран третьего и даже второго эшелонов там возникала многоукладность хозяйства (капиталистическое, мелкотоварное кустарное производство, более или менее современная сфера услуг, патриархальный аграрный сектор). На старую, традиционную социальную и даже социально-этническую структуру (сословия, касты, кланы, племена) накладывалась новая, похожая на структуру классового гражданского общества Запада. Между различными формами экономических и социальных связей не возникало того соответствия, которое характерно для них в странах органичной модернизации. Например, отношения здесь отнюдь не исключали иерархических отношений господства и подчинения между людьми, хотя рынок предполагает равные отношения. Главным результатом модернизации в странах третьего эшелона стала их зависимость от более развитых стран, которая в дальнейшем определяла все развитие их хозяйства, общественной жизни, культуры и политики. Зависимость же способствовала «консервации» отсталости их от передовых стран.
Выводы. В зависимости от выбранного критерия можно выделить несколько типов экономического развития. Закрытый тип предполагает отказ от вовлечённости в международные хозяйственные отношения. Открытый тип предполагает участие страны в международных экономических отношениях: международной торговле, перемещении ресурсов. Выделяют разные его подвиды: догоняющий, характерный для стран с поздним (запаздывающим) развитием; опережающий, свойственный странам лидерам; промежуточный – совмещающий основные видовые характеристики открытого типа развития.
Догоняющее развитие отражает объективную потребность сократить разрыв с ушедшими вперёд странами. Оно требует благоприятных экономических, социальных и политических условий не только внутри страны, но и состояния общемировой экономической конъюнктуры. Опережающий тип развития предполагает способность страны преодолеть отставание и добиться коренного улучшения своих позиций в международном разделение труда. Такое развитие возможно только при активной и эффективной внутренней и внешней экономической политике государства
В ходе развития мировой экономики, сложились три «эшелона развития» («эшелоны модернизации»). В странах первого эшелона, которые сформировали Центр мировой экономической системы, модернизация была органичной. В странах второго эшелона модернизация носили вынужденный характер, происходили под влиянием более развитых стран. В странах третьего эшелона модернизация была неорганичной, поверхностной, проходила под влиянием и в интересах более развитых стран.
Контрольные вопросы
1. Какие типы развития можно выделить?
2. Каким образом и когда произошло расслоение стран на страны «опережающего развития» и страны «догоняющего» развития?
3. Как сказывается это расслоение на возможностях развития стран «догоняющего» развития?
4. Есть ли успешные примеры перехода стран из «второго» и «третьего эшелонов» развития в «первый»? Каковы предпосылки такого перехода?
5. В постиндустриальной экономике упрощается или усложняется проблема «догоняющего развития» отставших стран? Почему?
6. Как вы определите воздействие процесса глобализации на мировую экономику в целом и на характер взаимоотношений между развитыми и развивающимися странами?
§
Господствующие теоретические подходы – концепции социально-экономического развития, представляют собой теоретическую базу стратегий развития, в ходе реализации которых должны быть разрешены конкретные социальные и экономические проблемы отдельных стран или их групп.
Изначально магистральным путём развития провозглашалась индустриализация и центре внимания был острый дефицит инвестиционных ресурсов в освободившихся странах, который считалось возможным ликвидировать главным образом за счёт помощи. Помощь странам третьего мира могли предоставить либо страны «мира капитализма», либо страны мира социализма.
Для многих бывших колоний, избравших в 1960–1970-е годы стратегию социально-экономического развития, получившую название «социалистическая ориентация», наиболее привлекательной концепцией развития оказалась марксистская. На это повлияли и советская пропаганда, подкрепляемая мощной финансовой, военной и другой помощью, и несомненная притягательность для бедных стран самой марксистской идеологии, сильной пропагандистской стороной которой является декларирование нацеленности на удовлетворение социальных нужд. Однако попытки осуществления такой стратегии не увенчались успехом. Для большинства развивающихся стран при формировании представлений о возможностях и путях решения насущных социально-экономических задач вплоть до конца 1970-х годов монополия принадлежала западной экономической мысли. В дальнейшем же стали усиливаться процессы формирования стратегии с большим учётом местной специфики и потенциала национальных кадров. По мере углубления дифференциации третьего мира увеличивалось многообразие стратегий развития, выделявших исходя из конкретных условий специфические пострановые приоритеты и задачи.
…
В 60-е годы, как и в колониальный период, ставка делалась преимущественно на эксплуатацию и экспорт природных ресурсов с целью аккумулировать финансовые средства для модернизации экономики. Освоением минерально-сырьевых ресурсов продолжали заниматься западные монополии. В тот период главным направлением развития была признана ускоренная индустриализацияс упором на капиталоёмкие отрасли производства. Основное внимание уделялось темпам экономического роста, величине и структуре накопления, выбору технологии, методам финансирования и т.п. В соответствии со стратегией ускоренной индустриализации упор делался на создании, развитии и совершенствовании материально-вещественных ресурсов. Но природные ресурсы продолжали сохранять определяющее значение для экономического развития: они рассматривались как важнейший источник поступления финансовых средств и как сырьевая база для развития собственного производства. При этом предполагалось, что социальные проблемы (прежде всего обеспечение занятости) будут автоматически решены в результате повышения темпов экономического роста. Однако развивающиеся страны вскоре столкнулись с серьёзными препятствиями, порождёнными урбанизацией и высокими темпами прироста населения, преимущественно трудоспособного. Становилось всё более очевидным, что огромная часть населения ещё долгое время будет зависеть от сельского хозяйства.
На фоне хронической нехватки продовольствия, роста безработицы и неполной занятости, усиления неравенства в распределении доходов центр тяжести в западной стратегии развития постепенно был перенесён с промышленности на сельское хозяйство. Вместе с тем было признано, что в основе многих нерешённых социально-экономических проблем развивающихся стран лежит неравномерность в распределении доходов. Поэтому в начале 70-х гг. появился новый подход к развитию, получивший название «перераспределение с ростом»,или «эгалитарный рост». Во главу угла была поставлена задача борьбы с нищетой и удовлетворение элементарных потребностей беднейшего населения путём расширения производительной занятости.
В 1970-е годы была осуществлена широкомасштабная попытка использовать западную модель производства, распределения, потребления, да и всего образа жизни. Однако полученные от экспорта средства расходовались неэффективно, чему в немалой степени способствовал переход самых прибыльных отраслей под контроль государственных чиновников. Все вместе это привело к усилению зависимости развивающихся стран в рамках мирового хозяйства, массовой безработице, нарастанию неравенства в распределении доходов и богатства в обществе.
В условиях нищеты, резкого взлёта безработицы и реальной угрозы массового голода потребовалась стратегия, которая базировалась бы на новом подходе к трудовым ресурсам как к самостоятельному объекту хозяйствования. Главным разработчиком новых рекомендаций выступила Международная организация труда (МОТ), предложившая использовать стратегию «основных нужд»(«basic needs»). Толчком к этомупослужило обострение проблем, связанных с обеспечением населения продовольствием и доброкачественной питьевой водой, и плачевное состояние здравоохранения, образования и других социальных услуг. Наиболее полно стратегия «основных нужд» была реализована в сфере образования: были достигнуты большие успехи в ликвидации неграмотности (В Африке к 1984 г. начальным образованием было охвачено от 51 до 95% населения).
Основной целью развития провозглашалось улучшение условий существования работников за счёт обеспечения их доходом, достаточным для воспроизводства рабочей силы. Достичь этого предполагалось путём развития «сельской промышленности» с целью обеспечить деревенских жителей товарами и услугами первой необходимости, а также косвенно способствовать уменьшению их миграции в города, а следовательно, уменьшить масштабы городской безработицы. Выявившаяся невозможность достичь в обозримый период времени целей индустриализации выдвинула на первый план идею решить проблемы бедности и голода путём развития традиционного сектора, прежде всего на селе. Предполагалось, что увеличение государственных инвестиций в сельское хозяйство, субсидирование крестьян, производящих продовольствие на внутренний рынок, позволит африканским государствам хотя бы отчасти решить продовольственную проблему собственными силами.
Реализация программы действий на основе концепции «основных нужд» позволила бы развивающимся странам, как считали эксперты МОТ, решить противоречие между долгосрочными и краткосрочными проблемами их экономического развития. Суть вопроса состояла в том, что для поддержания равновесия платёжного баланса требовалось сократить импорт, однако это вело к резкому уменьшению притока средств производства в промышленность и сельское хозяйство. В результате тормозился рост производительности труда, а значит, затруднялось проведение политики импортозамещения и увеличение промышленного экспорта. Эти долгосрочные проблемы вступали в противоречие с насущными задачами краткосрочного характера, прежде всего социальными. Выход из сложившейся ситуации виделся авторам концепции в достижении трёх первоочередных целей: 1) стабилизация объёмов производства продовольствия; 2) любое уменьшение доходов должно охватывать лишь те группы населения, чей доход превышает черту бедности; 3) первоочередное увеличение государственных расходов на важнейшие проекты в области удовлетворения «основных нужд».
Неутешительные экономические результаты 60-70-х годов послужили толчком к разработке развивающимися странами собственной стратегии развития, основанной на принципе самообеспечения. Этому способствовало разочарование в западных концепциях, выдвигавших в качестве главной цели развития экономический рост, а в качестве главного средства её достижения – преимущественное использование внешних факторов, в первую очередь иностранного капитала и западной помощи.
В основу региональной стратегии развития на 80-е годы была положена идея самообеспечения(«опоры на собственные коллективные силы и ресурсы» – «соllective self – reliance») и достижения на этой основе самоподдерживаемого экономического роста. Во главу угла ставилось промышленное развитие.
Экономика должна развиваться на основе максимальной мобилизации всех людских и материальных ресурсов континента, а также ускорения экономической интеграции, а внешняя помощь лишь дополнять собственные усилия развивающихся стран, а не служить базой их развития. Так, для стран Африки среди приоритетов экономической политики в соответствии с этой стратегией рассматривались не только достижение самообеспеченности продовольствием и создание прочной промышленной базы, но и существенное увеличение объёмов взаимного товарооборота между странами региона и развитие других форм экономической интеграции.
Другой отличительной чертой новой стратегии развития явилось усиление внимания к социальным аспектам развития, в том числе, более полной занятости населения, решению продовольственной проблемы, включая самообеспеченность продовольствием, участие женщин в производительной деятельности. В известной мере эти неудовлетворительные итоги были связаны с предыдущей абсолютизацией темпов экономического роста, когда структура государственного бюджета была подчинена выполнению экономических программ без учёта социальных проблем. Несмотря на привлекательность своих целей, первая в Африке программа коллективных действий осталась декларативным проектом, поскольку не была подкреплена соответствующими финансовыми и организационными мерами. Серьёзным препятствием для реализации идей региональной интеграции стало общее резкое ухудшение экономической ситуации в начале 80-х гг. вследствие усиления внутреннего кризиса развития, усугубленного ростом внешней задолженности. На первый план выдвинулся вопрос не столько развития, сколько выживания большинства развивающихся стран, что потребовало смещения акцентов в стратегии развития на решение ближайших задач.
Кризисная экономическая ситуация в конце 70 – начале 80-х годов, обусловившая кардинальную смену приоритетов развития, была предопределена как внутренними обстоятельствами (неспособностью госсектора возглавить экономический подъём и снять вызванную этим чрезмерную социальную напряженность), так и внешними факторами (уменьшением притока финансовых средств извне и резким сокращением поступлений от экспорта вследствие падения мировых цен на минеральное и растительное сырьё). В большинстве стран не были сформированы современный внутренний рынок в целом и, в частности, рынки многих видов товаров и услуг, капитала и рабочей силы. Для исправления ситуации и повышения эффективности хозяйствования развивающимся государствам были предложены опробованные к тому времени в ряде развивающихся стран программы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка реконструкции и развития (МБРР) по финансовой стабилизации и структурной перестройке экономики с целью адаптации её к условиям мирового хозяйств, которые получили название Вашингтонский консенсус.
Основные положения этих программ первоначально были следующими:
• девальвация национальной валюты с тем, чтобы стимулировать прирост экспортной выручки по сравнению с приростом валютных затрат на импорт, который в условиях подешевевшей национальной валюты становится менее привлекательным (в конечном счетё – дать толчок развитию местного предпринимательства);
• повышение ставки ссудного процента с целью сокращения выдачи кредитов;
• повышение процентных ставок по вкладам с целью мобилизации средств населения и стимулирования сбережений (предполагалось, что они в той или иной форме будут вложены в производство);
• либерализация закупочных цен на продукцию экспортного сектора
сельского хозяйства (в интересах, с одной стороны, увеличения их вывоза, а с другой – стимулирования конечного спроса сельских производителей на товары отечественного производства);
• либерализация внешней торговли с целью активизации деятельности негосударственных предприятий и повышения конкурентоспособности продукции местного производства (предлагалось ослабить таможенную защиту национальной промышленности и отменить запреты на импорт потребительских товаров);
• преодоление дефицита государственного бюджета (в основном путём ужесточения фискальной политики);
• приватизация государственной собственности как важнейшее условие ограничения вмешательства государства в экономику (наряду с отказом от субсидирования цен, в том числе на потребительские товары, законодательного установления минимальной заработной платы и т.д.);
• поощрение частной инициативы как местных, так и иностранных
предпринимателей, создание для них благоприятных условий.
Предлагаемые программы должны были в первую очередь способствовать выправлению кредитно-денежных и финансовых дисбалансов. Например, для поддержания равновесия торгового и платёжного балансов предлагалось проводить политику ограничения внутреннего спроса, прежде всего для сокращения расходов на оплату импорта. Чтобы заинтересовать государства в проведении рыночных реформ, МБРР и МВФ резко ограничили выделение своих кредитов тем из них, которые отказывались выполнять их рекомендации.
В большинстве стран, которые последовали рекомендациям, эти меры привели в основном к отрицательным последствиям. Так, оборотной стороной девальвации стало вздорожание импорта в местной валюте и, как следствие, рост спекуляции и контрабандной торговли, раскручивание инфляционной спирали, что способствовало обострению социальных конфликтов и падению уровня жизни населения. Сокращение выдачи кредитов в условиях высокой степени коррумпированности государственных служащих, принимающих решения по вопросам инвестирования, способствовало тому, что эти кредиты часто использовались не по назначению либо присваивались путём создания фиктивных предприятий.
Ухудшению условий торговли стран на мировых рынках способствовала и поспешная либерализация внешнеторговой политики, ослабившая потенциал местного производства и отодвинувшая на неопределённое будущее невозможную без государственной поддержки диверсификацию экспорта.
Ужесточение налоговой политики, придавшее ей исключительно фискальные функции, стало дополнительным тормозом для роста и диверсификации производства. Росту доли налогов в ВВП препятствуют низкая величина ВВП на душу населения; преобладание в экономике трудно поддающегося налогообложению сельскохозяйственного производства; нестабильная политическая обстановка, технически затрудняющая сбор налогов; и, наконец, наличие обширного неформального сектора, который по определению не может служить источником более или менее значительного налогообложения.
Эти обстоятельства, а также неэффективная структура самих налогов (например, внешнеторговые пошлины характеризуются чрезмерным количеством тарифных ставок и их высоким уровнем) побуждают государственные органы производить на официальной основе нелегальное, по сути, изъятие части дохода у производителей. Так, государственные управления по сбыту, осуществляющие закупки сельскохозяйственной продукции, платят за неё фермерам ниже рыночных цен, облагая их в результате своеобразным скрытым налогом, который нигде не фиксируется как доход от налогообложения.
Инвестиционная политика, ориентированная на разгосударствление экономики, предполагает поддержку местного частного предпринимательства, включая полную или частичную передачу ему объектов государственной собственности, и активное привлечение иностранных инвестиций. Однако специальные программы приватизации разрабатывались далеко не во всех странах, обратившихся за финансовой помощью к МВФ и МБРР и включившихся в процесс реализации предложенных ими программ, т.е. приватизация носила по большей части спонтанный характер.
Результаты реализации первоначальных программ МВФ для большинства стран оказались отрицательными: в первой половине 80-х годов в 70% африканских стран, принявших рекомендации, наблюдалось падение ВВП на душу населения, рост нищеты и безработицы, а в 60% – сокращение реальных внутренних сбережений и капиталовложений. В условиях незрелости и структурной несбалансированности экономики развивающихся стран чрезмерное ограничение совокупного спроса привело сначала к резкому снижению и без того невысоких стимулов к расширению производства. Недостаточно эффективными оказались и некоторые другие меры экономической политики не только из-за неразвитости рыночных отношений, но и вследствие несовершенства институциональных органов и неуклонного снижения контроля со стороны государственных служб над деятельностью субъектов рынка.
Из всего вышесказанного становится очевидным, что не существует какого-либо универсального для всех освободившихся стран набора стратегий, поскольку все они отличаются друг от друга по уровню развития, доходам на душу населения, воспроизводственной структуре, количеству населения, природным ресурсам и т. д.
Выводы. Эволюция теорий экономического развития объяснялась постепенным осознанием особого характера проблем, стоящих перед развивающимися странами, а также изменениями, происходящими в мировой экономике. Теории социально-экономического развития являются теоретической базой стратегий развития.
Стратегии развития первоначально базировавшиеся на теориях экономического роста – стратегии индустриализации, сменялись стратегиями, учитывающими значение не только техники и технологии, но и человеческого капитала, институциональных условий, а следовательно, характера распределения и потребления в этих странах. Это нашло отражение в стратегиях «базовых нужд» и «перераспределения с ростом».
Понимание значения внешнеэкономических факторов для развития экономики позволило реализовать конкурирующие (а в определённой мере и дополняющие) стратегии импортозамещающей индустриализации и экспортоориентированного развития.
Неспособность самостоятельной выработки и реализации эффективных стратегий развития, усугубление внутренних и внешнеэкономических проблем развивающихся экономик привели к дискредитации государственного регулирования и реализации программ развития на основе идей либерализации, которые были предложены международными финансовыми организациями – МВФ и МБРР.
Поиск стратегий продолжается, так как в настоящее время очевидно, что не существует какого-либо универсального для всех развивающихся стран набора стратегий, поскольку все они отличаются друг от друга по уровню развития, доходам на душу населения, воспроизводственной структуре, количеству населения, природным ресурсам и т. д.
Контрольные вопросы
1. Возможно ли создать единую теорию развития, имея в виду большую неоднородность развивающихся стран?
2. С чем связана эволюция стратегий развития развивающихся стран?
3. Приведите примеры успешных и неуспешных вариантов одних и тех же стратегий в разных странах.
4. Какова роль международных институтов и организаций в процессе экономического развития развивающегося мира?
Библиографический список
1. Алешина И. В. Проблемы моделирования экономики развивающихся стран (к критике буржуазной теории и методологии). – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1970.
2. Бобровников А., Теперман В. Латиноамериканские модели социально-
экономического развития // Общество и экономика . 2000. №9–10.
3. Богомолов О. Т. Мировая экономика в век глобализации : учебник – М : Экономика, 2007.
4. Всемирная история экономической мысли : в 6 т. Т. 6. Ч. 2.– М. : Мысль, 1997.
5. Гладков И. С. Мировая экономика и международные отношения : учеб. пособие. 3-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2003.
6. Истерли У. В поисках роста : приключения и злоключения в тропиках : пер. с англ. под ред. С. Зверского. – М. : ИКСИ, 2006.
7. Иноземцев В. Л. Пределы «догоняющего развития. – М. : Экономика, 2000.
8. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы : учеб. пособие. – М. : Логос, 2000.
9. Контуры инновационного развития мировой экономики. – М. : Наука, 2000
10. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика : учебник для вузов : пер. с англ. под ред В. П. Колесова, М. В. Кулакова. − М. : Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.
11. Ломакин В. К. Мировая экономика : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
12. Макализ Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007.
13. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. За пределами роста: Предотвратить глобальную катастрофу. Обеспечить устойчивое будущее. – М. : Прогресс Пангея, 1994.
14. Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. – М. : Мысль, 1996.
15. Минаев С. В. Глобальная экономика : 2004 г.: науч. аналит.обзор. – М. : ИНИОН РАН, 2005.
16. Мир – системный анализ и его критики. (Научно-аналитический обзор). –
М. : ИНИОН, 1996.
17. Мироненко Н. Центропериферическая структура мирового хозяйства / Н. Мироненко // Международная экономика. 2005. №1.
18. Мир на рубеже тысячелетий: прогноз развития мировой экономики до 2022 г. // Международная экономика. 2005. №1.
19. Морозенская Е. Развивающиеся страны Африки: поиски модели социально-экономического развития // Общество и экономика . 2004. №11– 12.
20. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика : пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью. – М. : Изд-во МГУ, 1994.
21. Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М. : Прогресс, 1972.
22. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики : учебник / Р. М. Нуреев. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008.
23. Общественная мысль развивающихся стран. – М. : Наука, 1988.
24. Олейник А.Н. Институциональная экономика : учеб. пособие/ А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2000.
25. О стратегии устойчивого развития мира и России // БИКИ. 2002. № 96.
26. Пахомова Л. Ф. Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия) – М. : Институт востоковедения РАН, 2007.
27. Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. Сб. 2.– М.,1999.
28. Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в ХIХ – ХХ вв. / В. Т. Рязанов. – СПб. : Наука,1998.
29. Сентеш Т. Буржуазные и «новолевые» теории мирового капиталистического хозяйства. – М. : Мысль, 1984.
30. Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в «третьем мире». – М., 1995.
31. Сото Э.де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире – М., 2001.
32. Стратегия ускоренного развития : методология, теория практика / под общ. ред. С. Б. Мельникова – М. : РАГС, 2000.
33. Тарушкин А. Б. Институциональная экономика : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2004.
34. Тодаро М. П. Экономическое развитие : учебник / пер с англ. под ред. С. М. Яковлева, Л. З. Зевина. – М. : Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.
35. Туманова Е. А., Шагас Н. Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : учебник / Е. А. Туманова, Н. Л. Шагас. – М. : ИНФРА – М, 2004.
36. Трансформационная экономика России : учеб. пособие / под ред. А. В. Бузгалина. – М. : Финансы и статистика, 2006.
37. Шитова О. Киотский протокол как экономический инструмент современ-ного международного права // Международная экономика. 2007. № 1.
38. Шишков Ю. В. Догоняющее развитие в эпоху глобализации. – М. : ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2006.
39. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М. : Наука, 1982.
40. Hess P., Ross C. Economic development: Theories, Evidence and Policies. Philadelphia etc., 1997.
41. Ray D. Development Economics. Princeton University Press, 1998.
[1] Мир на рубеже тысячелетий: прогноз развития мировой экономики до 2022 г.// Международная экономика. 2005. №1.С.5.
[2] Неклесса А. И. Конец цивилизации, или зигзаг истории / в сб. Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия : в сб. статей : в 2 т. М., 1999. Сб.2. С.40.
[3] Ломакин В. А. Мировая экономика : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С.25.
[4] МОТ о производительности труда в мире // БИКИ. 2007. №105. С.1.
[5] Неклесса А. И. Конец цивилизации, или зигзаг истории / в сб. Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. Сб. 2. С. 40 – 41.
[6] World Development Report. 1991. N.Y.6 Oxford University Press, 1991. P.4.
[7] Истерли У. В поисках роста /пер. с англ. под ред. С. Зверского. М. : ИКСИ, 2006.С.53.
[8] Мюрдаль Г. Современные проблемы третьего мира. М., 1972. С. 100.
[9] Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира».- М.,1982. с. 181.
[10] Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». М.,1982. С. 251.
[11] Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире. М., 2001. С. 2 .
[12] См. классификацию стран по стратегиям развития в Тодаро М. Экономическое развитие. С.450.
Инвестиции как фактор экономического роста . тип работы. финансы, деньги, кредит. 2008-12-09
Инвестиции как фактор
экономического роста
Преподаватель
к.э.н.
Медушевская И.Е.
Работа
выполнена Гуреевой И.А.
Факультет финансово-кредитный
Номер личного дела 05ффд41222
Группа №1
Пенза - 2006
Содержание.
1. Введение……………………………………………………………3
стр.
2. Экономическая сущность инвестиций
и их виды……………………………………………………………………4стр.
3. Инвестиции и динамика ВВП. Теория
мультипликатора и акселератора…………….……………………………………………..7стр.
4. Проблема инвестиций в современной
экономике России……….13 стр.
5. Заключение………………………………………………………….20стр.
6. Список использованной
литературы………………………………22 стр.
1.Введение.
Инвестиции представляют собой одну из важнейших экономических категорий,
один из компонентов ВНП, наиболее изменчивых и в то же время определяющих
развитие экономики. Если потребление функционально связано с доходами, а
государственные расходы и чистый экспорт довольно легко предсказуемы, то объём
инвестиций весьма сложно прогнозировать на макроуровне. Они могут резко и
внезапно увеличиваться либо падать. Так, во время Великой депрессии в США объем
инвестиций снизился на 100%, в России за период перестройки (с 1992 по 1998 г.)
он сократился более чем в три раза. Это было вызвано рядом причин, но основной
из них явилось отсутствие у держателей сбережений экономических мотивов для
превращения своих средств в инвестиции.
Ведущая роль инвестиций в развитии экономики определяется тем, что
благодаря им осуществляется накопление общественного капитала, внедрение
достижений науки и техники, вследствие чего создаётся база для расширения
производственных возможностей стран и их экономического роста.
Инвестиции определяют процесс расширенного воспроизводства. Строительство
новых предприятий, возведение жилых домов, прокладка дорог, а, следовательно, и
создание новых рабочих мест зависят от процесса инвестирования или реального
капиталообразования.
Концепция
мультипликатора-акселератора помогает уяснить проблемы равновесия, связанные с
соответствием между инвестициями и сбережениями.
2. Экономическая сущность инвестиций и их виды.
Под инвестициями в экономической теории понимают финансовые ресурсы,
направляемые на совершенствование производительных сил общества. Формы
инвестиций могут быть различными: вложения средств в расширение или
реконструкцию производства, в мероприятия, обеспечивающие повышение качества
продукции и услуг, в образование кадров и проведение научных исследований.
Иными словами инвестиции – это экономические ресурсы, увеличивающие реальный
капитал общества, включая, помимо технического капитала, такие его формы, как
человеческий и природный (натуральный) капитал. Функционирование и рост
экономики в значительной степени зависят от того, насколько легко могут быть
мобилизованы денежные средства для финансирования возрастающих потребностей как
государства и компаний, так и частных лиц.
Среди них (инвестиций) можно выделить: потребительские инвестиции;
инвестиции в бизнес (экономические инвестиции); инвестиции в ценные бумаги
(финансовые инвестиции).
Потребительские инвестиции, строго говоря, инвестициями не являются. Данное понятие
означает покупку товаров длительного пользования или недвижимости (автомобилей,
домов, бытовой техники и т.п.). Подобное вложение средств по сути является
сбережением денег, а не их инвестированием.
Инвестиции в бизнес –
реальное экономическое инвестирование, имеющее главным мотивом извлечение
прибыли и означающее приобретение для этих целей производственных активов.
Экономическим инвестированием является любое вложение средств в реальные
активы, связанное с производством товаров и услуг, для извлечения прибыли при
«нормальном» риске.
Финансовые инвестиции означают
приобретение активов в форме ценных бумаг для извлечения прибыли при
«нормальном» для данного вида инвестиций риске. В отличии от экономического
инвестирования финансовое не предполагает обязательного создания новых производственных
мощностей и контроля за их использованием, поэтому финансовый инвестор в
управлении реальными активами полагается на других. Процесс финансового
инвестирования означает простую передачу прав: инвестор передаёт свои права на
деньги (отдаёт деньги) и взамен приобретает права на будущей доход (получает в
собственность ценную бумагу).
Зарубежные
исследователи подчеркивают, что только в примитивных экономиках основная часть
инвестиций относиться к реальным, в то время как в современной экономике развитых
стран большая их часть представлена финансовыми инвестициями. Высокое развитие
институтов финансового инвестирования в значительной степени способствует росту
реальных инвестиций. Как правило, эти формы являются взаимодополняющими, а не
конкурирующими. Вложенные средства могут приносить доход при коммерческом
использовании вещей (сдаче дома в аренду) или в виде залога в финансовых
операциях.
Кроме
указанных основных видов инвестиций существуют и так называемые интеллектуальные
инвестиции, подразумевающие покупку патентов, лицензий, ноу-хау, подготовку
и переподготовку персонала, вложения в НИОКР.
В
зависимости от субъекта выделяют три категории инвестиций:
частные инвестиции, государственные инвестиции (в административные структуры и
в государственные предприятия) и частные инвестиции, инициируемые государством,
если оно считает их общественно полезными.
По
источникам финансирования инвестиции делятся на внутренние внешние.
Внутренние источники финансирования складываются из сбережении, т.е. той части личного
или общественного дохода от текущего производства, которая не расходуется на
текущее потребление. Они имеют две формы: добровольные и принудительные
сбережения.
Внешние источники инвестиций обычно
приобретают форму международного инвестирования – прямого или портфельного
(косвенного). Прямая инвестиция – это форма вложений, дающая инвестору
непосредственное право собственности на ценные бумаги или имущество и контроль
над ними. Например, когда инвестор покупает акцию, облигацию, ценную монету или
участок земли, чтобы сохранить стоимость денег или получить доход, он
осуществляет прямое инвестирование. Портфельная инвестиция – это вложения в
портфель, иначе говоря, набор ценных бумаг или имущественных ценностей,
приносящих доход.
Инвестиции
различаются по степени риска. Под риском понимается возможность
того, что абсолютная либо относительная величина прибыли на инвестицию окажется
меньше ожидаемой. Чем шире разброс абсолютных либо относительных значений
прибыли на вложенные средства, тем больше риск, и наоборот. Инвестиции с низким
риском считаются безопасным средством получения определенного дохода,
инвестиции с высоким риском, напротив, считаются спекулятивными.
С точки зрения срока действия инвестиции делятся на кратко-
и долгосрочные. Под краткосрочными инвестициями понимают обычно вложения
капитала на период, не более одного года (например, краткосрочные депозитные
вклады, покупка краткосрочных сберегательных сертификатов и т. п.), а под долгосрочными
инвестициями — вложения капитала на период свыше одного года.
3. Инвестиции и динамика ВВП. Теория мультипликатора и акселератора.
Инвестиции
выступают важным фактором, воздействующим на рост валового национального
продукта. Рост ВВП отражен в таблице 1.
Таблица 1.
Реальный
объем произведенного ВВП
млрд.рублей
2000
2001
2002
2003
2004
Валовой внутренний продукт
в рыночных ценах
7305,6
7677,6
8041,8
8632,7
9249,4
в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых
услуг финансового посредничества)
6530,4
6850,9
7171,5
7710,6
8261,4
в том числе:
Производство товаров
2939,6
3131,0
3243,8
3510,5
3731,4
из них:
Промышленность
2049,2
2149,7
2235,1
2401,8
2548,3
Сельское хозяйство
420,2
468,1
481,7
509,1
523,9
Строительство
428,8
471,3
484,5
553,8
610,1
Производство услуг
3590,8
3719,9
3927,7
4200,1
4530,0
в том числе:
Рыночные услуги
3041,3
3173,6
3369,3
3619,3
3935,7
из них:
Транспорт и связь
586,4
619,8
655,9
712,8
780,7
Торговля (оптовая, розничная),
общественное питание и заготовки
1545,5
1606,1
1737,1
1926,4
2120,7
Нерыночные услуги
549,5
546,3
558,4
580,8
594,3
Следует отметить,
что действие этого фактора не подчиняется какому-то строгому регламенту.
Инвестиции весьма изменчивы, причем их изменчивость гораздо подвижнее, чем
изменчивость валового национального продукта. Возьмем, к примеру,
продолжительность сроков службы оборудования. С экономической точки зрения
здесь все вроде бы определенно: срок амортизации закончился, следовательно,
необходимо менять оборудование. В реальной жизни все гораздо сложнее. По
известным только предпринимателю причинам сроки действия оборудования могут
быть продлены сверх периода амортизационных отчислений. Они могут быть частично
обновлены, обновлены на ½, на1/4, но основной капитал в течении
какого0то периода может вовсе не обновляться, и с этими решениями
предпринимателей связана амплитуда колебаний инвестиций в общественном
производстве: они то расширяются, то сужаются. Инвестированию может быть
подвергнуто производство и до истечения сроков амортизации, если этого требует
научно-технический прогресс.
Характерная
особенность инвестиций – их нерегулярность. С точки зрения той или иной отрасли
экономики в ближайшее время инвестиции в ней могут не предвидеться, но
коррективы могут произойти незамедлительно. Технические и технологические
сдвиги в какой-то одной отрасли могут вызвать быстрые и интенсивные инвестиции
в других, смежных отраслях экономики. Например, технический прогресс в
автомобильной промышленности всегда вызывает поток инвестиций в нефтехимические
отрасли производства. Аналогичное происходит, по существу, со всеми
взаимосвязанными друг с другом отраслями экономики. Колебания в инвестициях
происходят в зависимости от размера текущей прибили: прибыль стабильна —
стабильны и инвестиции; прибыль растет- растут инвестиции; появляются тенденции
к падению прибыли- тут же ограничиваются и инвестиции. Непостоянство прибыли
увеличивает нестабильность инвестиций.
Наконец,
предопределяют нестабильность инвестиций ожидания и их изменчивость. Ожидания
подвержены изменчивости в силу большого количества обстоятельств, в том числе и
состояния дел на фондовой бирже. Колебания курса акций, часто созданные
искусственно биржевиками, чтобы нажиться на спекулятивных сделках с ценными
бумагами, вызывают нестабильность в инвестиционной политике предпринимателей и
домохозяев.
Инвестиции будут приносить фирме дополнительную выручку, если с их
помощью она сможет реализовать свою продукцию на большую сумму. Это означает,
что очень важным фактором инвестиций является совокупный выпуск продукции (или
валовый продукт) и соответственно выручка.
Инвестиции, таким образом, зависят от выручки, которая в свою очередь
определяется состоянием общеэкономической активности. Некоторые исследования
показывают, что колебания выпуска продукции влияют на динамику инвестиций в
течении деловых циклов.
Теория динамики инвестиций базируется на принципе «мультипликатора».
Понятие мультипликатора было введено в экономическую теорию в 1931 г.
Английским экономистом Р. Каном. Он обратил внимание, что государственные
затраты на организацию общественных работ, проводимых администрацией Ф.
Рузвельта для сокращения безработицы, привели к мультипликативному эффекту
занятости. При расширении общественных работ рост числа занятых оказывается
более значительным, чем увеличение числа работников, непосредственно
привлекаемых к общественным работам. К примеру, рабочие, нанятые для
сооружения шоссейных дорог, увеличивая спрос на потребительские товары, «вызывают»
тем самым дополнительную занятость в отраслях, специализирующихся на выпуске
этих товаров во «вторичном» секторе. В свою очередь рост доходов и потребления
этой группы рабочих потребует расширения производства предметов потребления в
смежных отраслях – «третичном» секторе. Образующаяся таким образом цепная
связь распространяется (по убывающей) и на другие сектора. Эффект
мультипликации будет зависеть от величины «начального» импульса.
Дж. Кейнс уточнил сущность мультипликативного эффекта.
Мультипликатор – это коэффициент, показывающий связь между изменением
инвестиций и изменением величины дохода.
Он
помогает «почувствовать» эффект государственного стимулирования. Если
государство наняло рабочих, доходы которых вырастут на 1 млн. долл., то
совокупный доход в обществе вырастет на большую сумму. Это произойдет,
во-первых, потому что существует взаимосвязь между отраслями. Прирост доходов
под влиянием увеличения инвестиций порождает цепочку межотраслевых
взаимосвязей, которая в итоге вызывает рост производства, а значит, и дохода.
Во-вторых, прирост дохода, возникший от увеличения объема делится на
личное потребление и сбережение. Чем выше доля потребления С, тем
сильнее действует мультипликатор. Мультипликатор и прирост потребления
(предельная склонность к потреблению — МРС) находятся в прямой пропорциональной
зависимости. Мультипликар и прирост сбережеий (предельная склоннос
к сбережению — МРS) находятся в обратной пропорциональной
Формула
мультипликатора исходит из известного положения, согласно которому доход Y
равен сумме потребления C и сбережений S. Если принять, что 1, о C S=1.
Поскольку мультипликатор показывает в какой мере
увеличивается (прирастает) доход под воздействием накопления, то коффициент мультипликаии может быть выражен как единица,
делнная на преельную
склонность к сбержению:
(1)
Другое
выражение этой зависимости:
![]()
(2)
где ![]() – предельная склонность к
– предельная склонность к
потреблению.
Мультипликатор
может быть исчислен как коэффициент, отражающий зависимость изменения чистого
национального продукта (ЧНП) от изменения инвестиций:
Изменение ЧНП = мультипликатор * изменение в
инвестициях (3)
Явление
мультипликатора связано с тем, что, во-первых, для экономики характерны
повторяющиеся, непрерывные потоки доходов и расходов, где расходы одних
экономических субъектов являются доходами других. Во-вторых, любое изменение
дохода повлечет за собой изменения и в потреблении, и в сбережениях в том же
направлении, что и изменение дохода, при этом пропорциональность потребления и
сбережений сохраняется при любом изменении дохода. Отсюда логически вытекает
вывод о том, что исходное изменение величины расходов порождает своего рода цепную
реакцию, которая хотя и затухает с каждым последующим циклом, но приводит к
многократному изменению ЧНП.
Понятие
мультипликатора может создать впечатление, что этот эффект положительно
сказывается на экономике и следует стремиться к увеличению его значения.
Однако, необходимо учитывать и обратные последствия мультипликативного эффекта
–так называемый парадокс бережливости. Суть его состоит в том, что
любое экзогенное уменьшение совокупных расходов, в частности инвестиций,
приведёт к многократным, умноженным на мультипликатор, потерям для общества,
т.е. снижению ЧНП. Таким образом, парадокс состоит в том, что попытки общества
больше сберегать могут фактически привести к тому же или даже меньшему объёму
сбережений. Поэтому для обеспечения стабильности экономики желательно иметь
оптимальный (не столь высокий) уровень мультипликатора.
Увеличение
объёмов инвестиций приводит к росту доходов в отраслях, производящих
капитальные блага, и это обстоятельство вызывает увеличение потребительских
расходов. Следовательно, увеличение инвестиций ведет к росту потребительского
дохода. Однако, это может в свою очередь вызвать дальнейший рост инвестиций.
Этот эффект известен под названием принципа акселерации.
Процесс
наращивания дохода может (по крайней мере на короткое время) перейти границы,
воздвигаемые мультипликатором. Это объясняется взаимодействием мультипликатора
и акселератора. Первоначально происходит самостоятельное (автономное)
возрастание инвестиций. Это приводит к увеличению дохода в умноженном размере в
соответствии с величиной мультипликатора. Указанное увеличение дохода может,
однако, вызвать дальнейшее увеличение инвестиций. Числовой множитель, на
который каждый доллар приращенного дохода увеличивает инвестиции, называется коэффициентом
акселерации или просто акселератором.
Инвестиционный акселератор можно представить математически в виде
отношения инвестиций периода t к изменению потребительского спроса или
национального дохода в предшествующие годы:
 ,
,
где V – акселератор; J – чистые инвестиции в период t – год, когда
были осуществлены инвестиции; Y — потребительский спрос, доход или реальный
ВВП; t-1 и t-2 — предшествующие годы.
Прикладное значение
рассмотренных теорий состоит в том, что, владея ими, можно более осмысленно
разрабатывать экономическую политику государства, а также прогнозировать
экономическую активность на различных фазах цикла. Среди прочего это
способствует повышению эффективности инвестирования, снижению потерь факторов
производства и повышению производительности их использования.
4. Проблема инвестиций в современной экономике России.
Будущее
России и её статус как промышленной державы зависят от модернизации экономики
на современной технологической основе. На передний план выдвигается проблема
обеспечения устойчивого экономического роста. Это необходимо, чтобы достичь
среднего уровня 25 стран-членов ЕС по ВВП на душу населения, который на 300%
выше, чем в России.
Удвоение ВВП к 2022 году – цель, которая объективно требует всё больших
усилий и трудно достижима, – продолжает рассматриваться руководством страны как
приоритетная задача. Поэтому особо остро стоит вопрос о поиске инвестиционного
механизма, чтобы дать мощный импульс развитию реального сектора экономики.
Отсюда вытекает необходимость масштабных притоков инвестиций – отечественных и
иностранных.
Однако работа по их привлечению идёт пока не очень успешно. Участие
России в мировых ПИИ
в период экономической стабилизации после 2000 г. осталась практически
неизменным, не превышая в среднем 4–4,5 млрд.долларов США в год, что составляет
0,4–0,5% доли глобальных потоков(для сравнения: доля Китая составляет почти 10%
и продолжает расти). Но, по сравнению, с прошедшими годами можно наблюдать
тенденции к заметному росту объема иностранных инвестиций. Динамика их поступления
характеризуется данными, представленными в таблице 2.
Таблица 2.
Объем инвестиций, поступивших от иностранных
инвесторов, по видам.
1995
2000
2001
2002
2003
2004
Млн. долл. США
Млн. долл. США
Млн. долл. США
Млн. долл. США
Млн. долл. США
Млн. долл. США
Всего инвестиций
2983
10958
14258
19780
29699
40509
в том числе:
прямые инвестиции
2020
4429
3980
4002
6781
9420
из них:
взносы в капитал
1455
1060
1271
1713
2243
7307
кредиты, полученные
341
2738
2117
1300
2106
1695
от зарубежных
совладельцев
организаций
прочие прямые
224
631
592
989
2432
418
инвестиции
портфельные инвестиции
39
145
451
472
401
333
из них:
акции и паи
11
72
329
283
369
302
долговые ценные
28
72
104
129
32
31
бумаги
прочие инвестиции
924
6384
9827
15306
22517
30756
из них:
торговые кредиты
187
1544
1835
2243
2973
3848
прочие кредиты
493
4735
7904
12928
19220
26416
прочее
244
105
88
135
324
492
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в
январе-сентябре 2005 года, составил 26,83 млрд долларов, что на 7,9% ниже
соответствующего периода 2004 года. Негативная динамика — результат
значительного роста в 2004 году, уверяют статистики. В январе-сентябре 2004
года был существенный рост иностранных инвестиций в РФ — на 39,4% по сравнению
с 9 месяцами 2003 года, напоминает Росстат. По итогам всего 2004 года был
зафиксирован рост иностранных инвестиций на 36,4%, до 40,5 млрд долларов.
Прямые зарубежные инвестиции в Россию за январь-сентябрь 2005 года
составили 6,6 млрд долларов (рост на 18,1%).
Портфельные иностранные инвестиции в Россию за январь-сентябрь 2005 года
составили 365 млн долларов, что на 60,5% выше уровня 9 месяцев 2004 года.
Прочие инвестиции в Россию составили 19,8 млрд долларов — это на 14,8%
меньше соответствующего показателя 2004 года. В целом накопленный объем
иностранных инвестиций в российской экономике к концу сентября 2005 года
составил 96,5 млрд долларов, он увеличился на 31,4% по сравнению с концом
сентября прошлого года.
Основными
факторами, обусловившими повышение инвестиционной активности в последние годы,
являются:
·сохранение высоких цен мирового рынка на
энергоресурсы и металлы;
·улучшение финансового положения предприятий;
·рост спроса на отечественные инвестиционные
товары при высоком уровне цен на аналогичные импортные товары;
·увеличение инвестиционных ресурсов населения за
счет роста реальных располагаемых денежных доходов;
·снижение процентных ставок рефинансирования
Банка России;
·формирование позитивного инвестиционного имиджа
Российской Федерации по оценкам международных рейтинговых агентств.
15 декабря 2005г. агентство Standard&Poor’s повысило суверенный
рейтинг России до инвестиционного уровня. Теперь российский инвестиционный
рейтинг подтвержден всей тройкой мировых рейтинговых агентств. Ранее
инвестиционный уровень суверенного рейтинга России был установлен агентствами
Moody’s и Fitch.
Standard&Poor’s считается самым консервативным агентством из этой
тройки. Оно действительно долго выжидало, но, наконец, присоединилось к
коллегам. По гамбургскому счету страна признается инвестиционно привлекательной
с того момента, как это подтверждают все три мировых агентства, так что у российского
правительства есть все формальные основания считать свою политику успешной.
Дальнейшее повышение рейтинга, по мнению S&P, будет по-прежнему
сдерживаться политическими и институциональными рисками, которые будут расти по
мере приближения президентских выборов в 2008 году. Однако S&P не считает,
что эти риски угрожают способности России обслуживать свой внешний долг.
Основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность в настоящее
время, относятся:
·высокая
зависимость национального хозяйства, государственных финансов и платежного
баланса от внешнеэкономической конъюнктуры при существующей структуре ВВП;
·избыточные
административные барьеры для предпринимателей;
·недостаточная
правовая защита отечественных и иностранных инвесторов, слабая правоприменительная
практика;
·достаточно
высокая цена коммерческого кредитования, несмотря на заметное снижение ставок
на финансовом рынке;
·отсутствие
эффективных механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции;
·недостаточный
уровень развития фондового рынка.
Базовый закон 2000 г. ”Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”
предусматривает возможность предоставления льгот по крупным инвестициям и “приоритетным
проектам”.Однако
получить льготы практически нереально из-за отсутствия подзаконных актов.
Поэтому к числу первоочередных мер в данном направлении следует отнести
укрепление законодательной базы деятельности зарубежных инвесторов в отдельных
отраслях. Круг приоритетных отраслей требует тщательного обоснования. К ним,
безусловно, следует отнести отрасли инновационной сферы, однако в условиях
России нельзя забывать и социальную сферу.
Отраслевые проблемы привлечения иностранных инвестиций тесно стыкуются с
не менее острыми региональными. В России возможности экономической
регионализации и ресурсы до сих пор должным образом не задействованы: именно
недостаточный учет региональных условий и факторов стал одной из основных
причин невысокой результативности, а иногда и пробуксовки рыночных реформ и
вытекающей из этого недостаточной конкурентоспособности экономики.
Проблема конкурентоспособности является многоаспектной и многоуровневой.
Наряду с ее оценками на макро- и микроуровнях заслуживает внимания мезоуровень,
имеющий отраслевой и региональный аспекты. Именно последний особенно важен для
России в связи с обширностью ее территории и многообразием условий, а также с
отсутствием достаточно внятной региональной политики как необходимой
предпосылки повышения конкурентоспособности отдельных территорий в качестве
реципиентов ПИИ. Вследствие этого наблюдается прогрессирующая дифференциация
инвестиционного климата по территории страны, усиливающая неравномерность
регионального распределения иностранного капитала, что и отражено в таблице 3.
Таблица
3.
Региональная структура иностранных инвестиций, %
1995 г.
2000 г.
2003 г.
2004 г.
Российская Федерация
100,0
100,0
100,0
100,0
в том числе
Северный район
2,7
1,6
2,2
3,7
Северо-Западный
6,8
13,8
4,0
4,0
Центральный
57,9
41,9
52,7
44,6
Волго-Вятский
2,2
0,8
0,5
0,4
Центрально-Черноземный
0,2
0,7
0,2
3,0
Поволжский
9,6
4,8
1,2
4,6
Северо-Кавказкий
1,8
10,1
2,1
1,4
Уральский
2,1
8,7
8,5
3,5
Западно-Сибирский
8,8
10,7
17,0
17,5
Восточно-Сибирский
0,8
1,4
1,7
4,7
Дальневосточный
6,6
5,3
9,6
12,5
Калининградская область
0,5
0,2
0,2
0,1
В территориальном распределении
иностранного капитала, как и в отраслевом, немалую роль играют интересы
инвесторов. Они вкладывают капитал с целью скорейшего получения максимально
возможной прибыли и направляют его туда ,где, по их мнению, существуют наилучшие
условия, то есть в крупные города с развитым производственным потенциалом и
рыночной инфрастуктурой. Прежде всего это Москва, Санкт-Петербург и
Екатеринбург.
Действуют и другие факторы.
Так, отмечаемый ежегодно масштабный приток инвестиций в Омскую область связан в
основном с финансовыми операциями компании “Сибнефть”, а отнюдь не с реальным
зарубежным инвестированием в ее экономику.
Решению региональных проблем во
многом способствовало бы построение общегосударственной системы постоянного
мониторинга инвестиционного климата регионов. При нынешнем положении дел
невозможно дать его однозначную оценку и постоянно отслеживать динамику
Одной из магистральных линий
политики федерального центра и самих регионов в области привлечения иностранных
инвестиций и регулирования их территориального размещения должно стать усиление
социальной направленности, последовательная ориентация на создание новых
рабочих мест, повышение доходов бюджетов и населения в регионах-реципиентах.
Потребность России в
инвестициях нарастает. Ситуация такова, что пауза в инвестиционном процессе
может обернуться для России не только потерями темпов развития. При высоком
уровне износа основного капитала прекращение обновления производства грозит
самому существованию предприятий.
По расчетам Российского союза промышленников
и предпринимателей, для устойчивого роста отечественной промышленности на
уровне 7-8% в год необходимы ежегодные инвестиции в размере 100 млрд.
долларов. Именно такие вложения позволят промышленным предприятиям осуществить
реструктуризацию производства и провести замену оборудования. Между тем в 2003
г. Российские предприятия инвестировали в производство около 70 млрд. долларов. Для недостающих 30 млрд.
долларов придется искать дополнительные источники: инвестиции иностранных
компаний и возврат вывезенных российских капиталов.
Однако все взоры сейчас
обращены к власти, которая выдвигает предложение о создании фонда
государственных инвестиций. К этому году в государственном бюджете планируется
создание инвестиционного фонда, с помощью которого правительство собирается
финансировать проекты в области инфрастуктуры, наукоемкого производства и
промышленности, подтолкнув таким образом экономический рост. Но у отдельных экономистов
есть большие сомнения в эффективности такого фонда.
5. Заключение
Россия
остро нуждается в фондах финансирования для своих инфраструктурных проектов,
что подтверждает удручающее состояние автодорог, промзон и даже целых районов в
больших городах. Эти тенденции показывают, насколько важно освоить путь
инвестиционного развития нации для укрепления позиций отечественных
предприятий, которые таким образом могут достичь лидерства на глобальном рынке,
где постепенно исчезают барьеры для торговли и движения капиталов.
Эксперты
предсказывают, что в ближайшие 7–10 лет ожидается значительный рост ПИИ,
причем к 2022 году ежегодные притоки превысят 1 трлн. долларов.
К 2050 году российский ВВП вырастет в 10 с лишним раз — до 55 630
долларов на душу населения, а по размеру экономики Россия поднимется с 9 на 7
место в мире. Такой прогноз сделал инвестиционный банк Goldman Sachs,
рекомендовав инвесторам в 2006 году вкладываться в растущие валютные и фондовые
рынки России и других стран так называемой BRIС — Бразилии, Индии и Китая. Термин BRIC — аббревиатуру по
первым буквам английских названий Бразилии, России, Индии и Китая — ввел в 2003
году инвестиционный банк Goldman Sachs (GS), который тогда назвал перечисленные
страны наиболее перспективными «развивающимися рынками». Считается,
что эти рынки к середине века выйдут на первые позиции в мировой экономике: в
частности, в 2032 году по размеру экономики Индия обгонит Японию, а в 2041 году
Китай обойдет США.
Экономисты GS уверены, что акции российских, бразильских и индийских
компаний будут расти, а валюты всех четырех стран BRIC — укрепляться. Теперь,
говорят они, BRIC уже не просто «развивающиеся рынки», а второй после
США «двигатель мировой экономики».
Итак, экономические
перспективы России становятся все яснее: того и гляди к нам придут
«большие деньги» крупнейших западных инвестиционных и пенсионных
фондов. На деле, однако (несмотря на благозвучные рейтинги), до этого далеко:
Россия пока не вынырнула из-под волны оттока капиталов. А это значит, что одних
рейтингов недостаточно, тем более что, как выясняется, они хорошо измеряют
возможность расплатиться с долгами, а вот с оценкой реального инвестиционного
климата получается несколько хуже.
6. Литература
Официальные документы
1.Федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»
(с изменениями от 02.01.2000 г.)
Учебники, монографии, сборники научных трудов
2.Инвестиционная деятельность:
Учебное пособие / Под ред. Г.П.Подшиваленко и М.В.Киселевой. – М.: ЮНИТИ, 2005.
3.Макроэкономика: Учебное
пособие / Под ред. И. П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ, 2000.
4.Экономическая теория.
Трансформирующаяся экономика: Учебное пособие / Под ред. И. П. Николаевой. –
М.: ЮНИТИ, 2004.
5.Экономическая теория: Учебник /
Под ред. И. П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ, 2002.
6.Экономическая теория: Учебник для
вузов / Под ред. В. Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2003
Статьи из журналов и газет
7.Вариавский В. Риски частных инвестиций в
производственную инфраструктуру России.// МЭиМО. 2004. № 5
8.Инвестиционная модель России //МЭиМО. 2003. №11.
9.Куприянов Д. Влияние иностранных инвестиций на
экономический рост.// Экономист. 2005. № 9.
10. Лисин В. Инвестиционные процессы в российской
экономике //Вопросы экономики. 2004. №6.
11.
Отраслевые и региональные
проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.// МЭиМО.2005. №
9.
12.
Фишер П. Россия и мировые
притоки прямых иностранных инвестиций: проблемы и перспективы.// Вопросы
статистики. 2005. № 9.
Интернет
13. Сайт газеты «Ведомости». http://www.vedomosti.ru./Великолепная четверка/.
14. Сайт http://www.gzt.ru./Трижды инвестиционная/.
15. Сайт газеты «Время
новостей». http://www.vremya.ru./ В России будет
хорошо/.
16. Сайт РосБизнесКонсалтинг./ http://www.rbc.ru.
17. Статистические
данные взяты с сервера “ГОСКОМСТАТа”
России по адресу http://www.gks.ru.
Основные показатели
системы национальных счетов Copyright © Федеральная служба государственной
статистики






